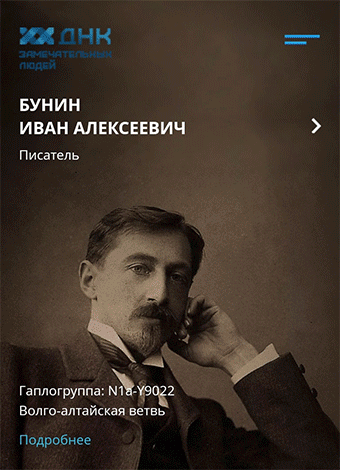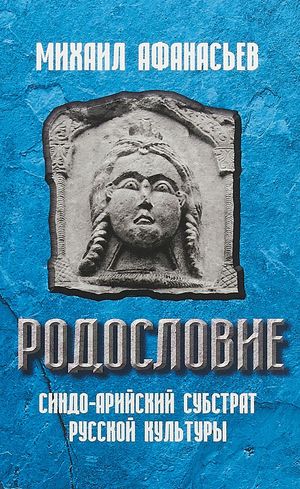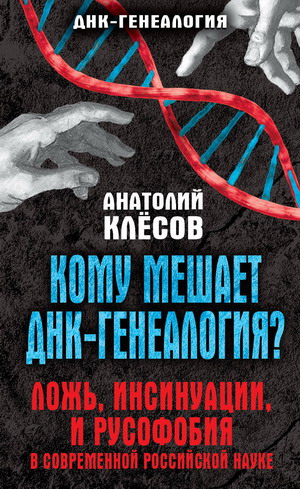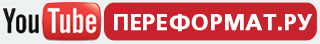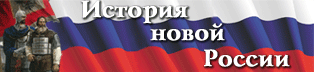Семь десятилетий фактически под запретом для исследовательского использования в нашей стране находились так называемые духовные стихи. Этот важный жанр русского фольклора пока еще медленно возвращается в научный оборот. Между тем, среди записей народных духовных стихов, которые были осуществлены крупными собирателями XIX cтолетия, есть тексты, исключительно ценные своей исторической конкретностью и весьма давние по происхождению. Фактически это не что иное, как варианты древних исторических песен.

В знаменитом собрании П.А. Бессонова ряд таких произведений содержит раздел «Стихи старшие былевые: местные русские». Особенно выделяется здесь своей архаичностью непосредственно связанный с Куликовской битвой духовный стих «Дмитровская суббота».
Произведение повествует об обстоятельствах, при которых было установлено поминовение в Дмитровскую субботу павших на Куликовом поле.1
Накануне субботы Дмитровской;
Во соборе святом Успенскиим
Обедню пел Киприян святой.
За обедней был Дмитрей князь
С благоверной княгиней Евдокиею,
Со князьями ли со боярами,
Со теми со славными воеводами.
Во время литургии князю Дмитрию Ивановичу кажется, что он как бы перенесся на место недавней Куликовской битвы:
А видит он чистое поле,
То ли чисто поле Куликово.
Изустлано поле мертвыми телами,
Христиаными да татарами:
Христиане-то как свечки теплятся,
А татары-то как смола черна.
По полю сражения движется Богородица в сопровождении апостолов и ангелов: «отпевают они мощи православных». Богородица спрашивает апостола Петра, почему нет среди павших князя Дмитрия. Петр отвечает:
А Димитрей князь в Московском граде,
Во святом Успенскиим соборе,
Да и слушает он обедню
Со своей княгиней Евдокией,
Со своими князьями-боярами,
Со теми ли со славными воеводами.
В тексте угадывается намек на сведения, сохраненные в Повести о Мамаевом побоище. Князь Дмитрий Иванович, желая участвовать в бою наравне с простыми ратниками, отдал свою дорогую «приволоку» боярину Михаилу Бренку, который остался стоять под княжеским знаменем, был, вероятно, принят татарами за великого князя и погиб. Самого же Дмитрия Ивановича воеводы отговорили от намерения лично начать сражение поединком (в ходе которого затем погиб Пересвет).
И рече мать пресвятая Богородица:
Не в своем Дмитрий князь месте.
Предводить ему лики мучеников,
А его княгине – в моем стаде.
Видение пропадает. Очнувшийся князь истолковывает его как предвестие своей кончины. Он произносит со слезами:
Ах, знать, близок час моей смерти!
Скоро буду в гробе я лежати,
А моей княгине быть во черницах!
Князь решает воздать должное воинам, павшим на Куликовом поле, увековечив их память:
А на память дивного видения
Уставил он Дмитровску суботу.
После Куликовской битвы великий князь Дмитрий Иванович прожил девять лет; княгиня Евдокия, похоронив его, постриглась в монахини. Но в стихе подразумевается обещание, даваемое этим князем еще осенью 1380 года. А возведенный при князе Иване Калите Успенский собор Московского Кремля (перестроенный впоследствии при Иване III) здесь достоверно фигурирует как место литургии, которую служит митрополит Киприан. Таким образом, в этом духовном стихе, возникшем, конечно, еще в XIV столетии, речь идет о том, что Киприан находится в Москве вскоре после сражения на Куликовом поле.
Сведения о пребывании митрополита Киприана в Москве незадолго до Куликовской битвы отображены уже в начальном изводе Повести о Мамаевом побоище. Согласно этому тексту, великий князь Дмитрий Иванович и князь Владимир Андреевич дважды беседуют с Киприаном после получения сведений о приготовлениях Мамая, а третий раз – после их свидания с Сергием Радонежским. Несколько позже Киприан лично благословляет Дмитрия Ивановича перед отправлением в поход и посылает духовенство ко всем городским воротам благословлять воинов, выступающих из Москвы.2
Естественно, что подробности приводимых в Повести диалогов князей и митрополита могли быть плодами благочестивых домыслов самого ее составителя. Но личное благословение митрополитом великого князя перед его отправлением в столь судьбоносный поход, как и участие московского духовенства в напутствии всего войска, – это, конечно, не вымысел, а совершенно естественные для того времени факты, достоверность которых в принципе странно было бы оспаривать.
Однако причастность к подобным фактам митрополита Киприана традиционно оспаривалась в среде наших историков. Причина этого хорошо известна. В нескольких старших летописях, которые восходят к сгоревшей пергаменной Троицкой летописи, упомянуто, что митрополит Киприан, находившийся за пределами Русской земли, прибыл в Москву весной 1381 года. Это прочитал Н.М. Карамзин в тогда еще существовавшей Троицкой летописи, которая была составлена в первой трети XV века. Он, правда, упомянул, что Никоновская летопись датирует приезд Киприана в Москву годом раньше – весной 1380 года. Но эта летопись составлена на сто лет позднее, чем Троицкая летопись. Н.М. Карамзин и последующие историки предпочитали доверять более древней Троицкой летописи. Однако обнаружилось, что для такого предпочтения нет достаточных оснований.
Сбивчивые показания источников относительно передвижений Киприана до его прибытия в Москву были подвергнуты в книге Ф.М. Шабульдо придирчивому анализу, результат которого впоследствии поддержал в своей книге Н.С. Борисов.3 Этот анализ позволял доказательно оспорить идущее от Н.М. Карамзина представление о прибытии Киприана в Москву только в 1381 году. Совокупность относящихся к этой проблеме материалов была еще раз подробно проанализирована в недавней книге К.А. Аверьянова.4 Он подтвердил достоверность известий Никоновской летописи, из которых следовало, что в Москву Киприан прибыл в 1380 году.
Выводы Ф.М. Шабульдо и К.А. Аверьянова безуспешно попытался оспорить в задиристо-невежливой статье В.А. Кучкин.5 Детальный разбор этой удивительной работы предоставляю самим критикованным в ней авторам. Приведу здесь только некоторые примеры методики полемиста. Весьма пристрастная интерпретация первого из названных мной выше трудов так резюмирована Кучкиным: «Источниковедческие изыскания и исторические выводы Ф.М. Шабульдо относительно политического развития государств Восточной Европы в конце 70-х – начале 80-х гг. XIV в. не нашли поддержки у специалистов» (с. 265). Для подтверждения этого Кучкин дает единственную ссылку – на «соответствующие разделы в работе А.А. Горского «Москва и Орда». М., 2000» (с. 274). Но в данной книге Горского есть только главы, не имеющие разделов. Труд Шабульдо используется в ней трижды. В главе 2-й Горский признаёт правомерность мнения Шабульдо о событиях в Южной Руси конца XII – начала XIII вв. (с. 39-40). В главе 4-й Горский опирается на книгу Шабульдо, описывая события 1340-х годов в Галицко-Волынской земле (с. 74). И только в одном случае Горский не согласился с мнением Шабульдо, говоря об отношениях между Ордой и некоторыми периферийными русскими землями при Симеоне Гордом в середине XIV в. (с. 75-76). Но это не имеет никакого отношения к событиям «в конце 70-х начале 80-х гг.» и, разумеется, никак не связано ни с Куликовской битвой, ни с митрополитом Киприаном. Делая вид, что он опровергает информацию Аверьянова о примирении князя Дмитрия с митрополитом Киприаном незадолго до Куликовской битвы, Кучкин привел на с. 275 не говорящую ничего об их отношениях фразу из «Соборного определения» патриарха Антония. Но Кучкин проигнорировал действительно посвященный их отношениям текст, напечатанный в том же столбце той же публикации того же «Соборного определения». Там ясно говорится, что «великий князь московский <…> призывает митрополита Киприана, вполне раскаявшись и испросив у него прощения в том, в чем погрешил перед ним, обманутый грамотами бывшего патриарха». Написанная в таком ключе, эта статья В.А. Кучкина, как можно полагать, лишь по недосмотру попала в сборник, посвященный 70-летию действительно выдающегося ученого Бориса Николаевича Флори.
Но требовал все же объяснения тот несомненный факт, что Троицкая летопись и несколько других летописей, более ранних, чем Никоновская, датируют прибытие Киприана в Москву 1381-м годом, а не 1380-м.
Троицкий монастырь был причастен к ведению митрополичьей летописи, которое остановилось на известиях 1408 года вследствие стечения ряда исторических обстоятельств. Таковы были смерть митрополита Киприана, более полутора десятилетий руководившего летописной работой, четырехлетнее отсутствие главы у московской митрополии, сожжение Едигеем монастыря, вносившего едва ли не самый значимый вклад в митрополичье летописание последней четверти XIV века. Всё это привело к тому, что появился существовавший в виде Троицкой летописи так называемый «свод 1408 года». Фактически же это был не летописный свод, а просто результат вынужденного прекращения в 1408 году летописной работы. После десятилетней паузы она снова активизировалась – уже в процессе подготовки Полихрона митрополита Фотия.
Из информации, которую приводил В.Н.Татищев и на которую ссылался М.Д. Приселков, можно заключить, что после кончины в 1406 году митрополита Киприана летопись продолжил по его повелению архимандрит Игнатий Спасский.6 Источник этих сведений В.Н.Татищева пока не выявлен, однако текст, близкий к татищевскому, недавно был обнаружен среди летописных выписок Х.А. Чеботарева (1796 года), которые, судя по его рукописи, были взяты не из труда В.Н. Татищева.7 Следовательно, есть основания доверять информации о причастности архимандрита Игнатия к работе по дополнению и редактированию Троицкой летописи.
Выполняя поручение митрополита Киприана, Игнатий, очевидно, не только добавил описание нашествия Едигея, но и произвел обработку сведений о предшествовавших событиях, используя заготовки помощников Киприана.
Сводом же самого митрополита Киприана была не Троицкая летопись, а «Летописец Великий Русьский», к которому счел нужным отослать своего читателя редактор Троицкой летописи. Разносторонняя летописная работа, возглавленная митрополитом Киприаном, была, как свидетельствуют результаты весьма основательных разысканий А.Н. Насонова, особенно тесно связана с Троицким монастырем.8 Там и мог находиться экземпляр, отображавший последний в то время этап Киприановского летописания, к которому отсылала летопись Троицкая. Использованная ею летопись велась под названием «Летописец Великий Русьский», так как именно она систематически обогащалась путем привлечения всё новых источников из разных очагов летописной работы на просторах Русской митрополии.
После сожжения татарами Троицкого монастыря кремлевскому архимандриту Игнатию приходилось искусственно оканчивать летописное повествование, приспосабливая его к круто изменившейся исторической обстановке. Она требовала от редактора летописи не скрупулезной хронологической точности, а ориентации на обстоятельства нового усиления зависимости от Орды.
Реальная дата, оканчивающая текст сгоревшей в 1812 году Троицкой рукописи – даже вне зависимости от дискуссии между М.Б. Клоссом и В.А. Кучкиным о времени завершения ее оригинала9 – заставляет с осторожностью воспринимать уровень точности сведений этой летописи относительно датировки событий последней четверти XIV cтолетия. Как писал В.А. Кучкин, неверным оказалось указание этой летописи на то, что в октябре 1399 года произошло нападение татарского царевича Ентяка на Нижний Новгород, после чего был совершен ответный трехмесячный поход русских войск на татарские города. На самом деле эти события происходили четырьмя годами раньше, о чем достоверно известно из других летописей и актов того времени. В.А. Кучкин в данной связи заключал: «Ошибка в Троицкой летописи свидетельствует о том, что ее редактор не был современником этого похода, летопись создавалась тогда, когда точное время похода уже стерлось из памяти».10
Но поскольку Троицкая летопись смогла ошибиться на целых пять лет, повествуя о ряде немаловажных событий тринадцатилетней давности, то почти тридцатилетняя давность одного из приездов в Москву – тогда еще ненадолго – митрополита Киприана заметно увеличивает вероятность ошибки на один год при датировании данного факта. Другие летописи, где имеется аналогичное упоминание о прибытии Киприана в 1381 году, опосредованно восходят в соответствующих частях своего текста к летописи Троицкой. (Л.Л. Муравьева справедливо напоминала, что «Троицкая летопись послужила основой последующего общерусского летописания вплоть до XVII в.».11) Естественно, что они не могут использоваться для подтверждения этой даты. Напротив, дата, сообщенная Никоновской летописью, согласуется не только с ее контекстом, но и с показаниями большого комплекса не-летописных источников, которые с разной степенью подробности и порой независимо друг от друга описывают важные события 1380 года, предшествовавшие сражению на Куликовом поле и следовавшие за ним, – события, в которых участвует митрополит Киприан.12
Существенно, что само известие Троицкой летописи о прибытии Киприана в Москву якобы весной 1381 года отсутствовало в ее главном источнике – «Летописце Великом Русьском». Это видно из того, что оно отсутствует и в непосредственно использовавшей этот «Летописец» Новгородской 1-й летописи младшего извода, и во всех летописях, восходящих к нему через посредство свода Фотия – в Новгородской 4-й летописи, в Софийской 1-й летописи, а также в восходящих к ним Новгородской летописи Дубровского и других. Из этого следует, что «Летописец Великий Русьский» митрополита Киприана, по-видимому, вообще не содержал отдельного известия о его прибытии на Русь в связи с Куликовской битвой, а упоминал о данном факте только попутно в общем контексте повествования о событиях 1380 года – соответственно тому, как об этом говорится в Никоновской летописи.13
Поскольку Троицкая летопись оформлена была через два года после кончины митрополита Киприана, следует полагать, что удивительная краткость находящейся здесь редакции Повести о Куликовской битве обязана была уже не Киприану. Она – результат впечатления от нашествия на Русскую землю Едигея в 1408 году. Пространное повествование об этом бедствии окончило текст Троицкой летописи.
С таким ее завершением слишком дисгармонировало бы подробное описание победы в 1380 году над татарами, которые только что как бы взяли реванш и в течение трех недель разоряли Русскую землю, грабили и жгли русские города, истребляли их жителей и увели толпы русских пленников, причем сожгли и Троице-Сергиев монастырь. Легко понять, что архимандрит Игнатий признал слишком несвоевременным и даже неуместным в тогдашней обстановке написанное в приподнятом тоне весьма подробное освещение разгрома русскими татарского нашествия в 1380 году. В замену этого повествования Игнатий наскоро скомпоновал короткий рассказ, куда попали лишь небольшие выборки из текста находившейся в составе «Летописца Великого Русьского» пространной Повести о Куликовской битве. Игнатий малоискусно соединил их с текстовыми заимствованиями из тождественного по теме, но краткого рассказа о гораздо менее значимой битве с татарами на реке Воже, который читался в той же Троицкой летописи и также восходил к «Летописцу Великому Русьскому».14
Трагические обстоятельства завершения работы над Троицкой летописью, заставившие архимандрита Игнатия сместить исторические акценты, существенно умаляя значение победы над Ордой в 1380 году, естественно, побудили его сместить их и в другом отношении – «нейтрализуя» позицию русской митрополии по отношению к Орде. Митрополит Киприан в 1382 году не был причастен к противодействию, которое оказывали жители Москвы захвату города Тохтамышем. А из-за появившейся в Троицкой летописи под пером Игнатия хронологической неточности следовало, что Киприан будто бы не был причастен и к противодействию, какое московский великий князь оказал армии Мамая за два года до взятия Тохтамышем Москвы и восстановления ордынской власти над Русской землей.
Информацией о приезде Киприана в Москву архимандрит Игнатий начал летописную статью, в которой находилось известие о крещении митрополитом Киприаном, вместе с игуменом Сергием Радонежским, сына князя Владимира Андреевича Серпуховского. Но оно произошло в 1381-м году, а не в 1380-м.
Составленный ранее под эгидой самого Киприана «Летописец Великий Русьский» едва ли стал бы умалчивать о том, что митрополит благословил войско, отправлявшееся из Москвы на битву с армией Мамая, а после победы торжественно встречал победителей в Москве. Но два года спустя Киприан был изгнан великим князем Дмитрием Донским (как полагают – в связи с отъездом митрополита из осажденной татарами Москвы в 1382 году). Только после кончины Дмитрия Ивановича и посажения ордынским послом 15 августа 1389 года на великое княжение во Владимире Василия Дмитриевича Киприан смог вернуться в Москву в марте 1390 года.15
Между тем, как раз в то время, когда Киприан скитался в изгнании, а московская митрополия была объектом борьбы между разными претендентами, составлялась в 1386 году подробная Повесть о Куликовской битве, основанная на письменной фиксации устного рассказа ее участника. По понятным причинам не упомянувшая тогда Киприана, эта повесть позднее сохранялась, очевидно, в митрополичьем архиве и не раз привлекалась составителями летописных сводов. Полностью она была использована еще самим митрополитом Киприаном в не дошедшем до нас «Летописце Великом Русьском», фрагментарно – архимандритом Игнатием, препарировавшим текст этого «Летописца» в Троицкой летописи, а с сокращениями – составителем Новгородско-Софийского свода 1430-х годов, который отразился в Новгородской четвертой, Софийской первой и в восходивших к ним летописях. Только в 30-е годы XVI столетия Повесть целиком попала в дошедшую до нас Новгородскую летопись Дубровского, представлявшую собой свод будущего митрополита Макария, начатый в бытность его новгородским архиепископом. В это время предшественник Макария на митрополичьей кафедре Даниил руководил в Москве работой по составлению официальной Никоновской летописи. Он, вероятно, использовал в числе своих источников «Летописец Великий Русьский» митрополита Киприана, а архиепископу Макарию предоставил для его работы над летописным сводом в Новгороде не упоминавшую Киприана первоначальную Повесть о Куликовской битве.16
Что касается Пересвета и Осляби, то их подвиги на Куликовом поле в серьезных работах сомнению не подвергались. Однако продолжаются попытки оспорить принадлежность этих героев войны 1380 года к инокам Троицкой обители. Неосновательность упомянутой тенденции показал конкретно Н.С. Борисов еще в 1990 году.17 Впрочем, незнакомый, видимо, с его тогдашней книгой А.В. Кузьмин почтительно опирался в 2002 году на уже оспоренные Борисовым суждения В.А. Кучкина,18 которые тот напечатал более двадцати лет назад в «Вопросах научного атеизма» и варьировал позднее.19
Собственные же разыскания А.В. Кузьмина приводили, однако, и к обоснованным выводам, причем, поводя итоги, этот автор пишет: «Анализ письменных источников XIV-XVI вв. не оставляет сомнений в достоверности существования известных прежде всего по «Задонщине» и «Сказанию о Мамаевом побоище» участников Куликовской битвы Андрея Ослебяти и Александра Пересвета. Степень их прямого родства, – продолжает А.В. Кузьмин, – подтвердить не удается. Известно, что И.С. Пересветов называл Ослябю и Пересвета родными братьями. Однако нет никакой уверенности, что сведения об этом он почерпнул из семейных преданий, а не из чтения «Задонщины» или «Сказания о Мамаевом побоище». Поэтому данный вопрос пока следует считать открытым».20
И.С. Пересветов, конечно, мог черпать содержащиеся в его челобитных сведения о Пересвете и Ослябе из названных Кузьминым произведений. Упомянув «своих пращур и прадед, как служили верно государем, русским великим князем», Иван Пересветов дает историческую справку: «Пересвет и Ослябя в чернцех и в схиме со благословением Сергия чудотворца на Донском побоищи при великом князе Дмитрие Ивановиче за веру християнскую и за святыя церкви и за честь государеву пострадали и главы свои положили».21 Однако, ни в этом тексте, ни в других, И.С. Пересветов не называет Пересвета и Ослябю братьями.22 Мнение об их ближайшем кровном родстве базируется не на челобитных И.С. Пересветова, а, по-видимому, на истолковании в таком именно смысле упоминаний самой Задонщины: «И рече Ослебя брату своему Пересвѣту: «Уже, брате, вижю раны на сердци твоемь тяжки. Уже твоеи главѣ пасти на сырую землю на бѣлую ковылу моему чаду Иякову».23 Чернецы Пересвет и Ослябя принадлежали к монашеской братии Троицкого монастыря, члены которой, вне зависимости от наличия или отсутствия родственных связей, должны были при обращении друг к другу употреблять слово «брате».
Их социальный статус, обстоятельно изученный А.В. Кузьминым, вполне отвечает роли, какую реально играли эти лица в событиях 1380 года – согласно текстам названных памятников. В той же Задонщине дан перечень павших на Куликовом поле «князи великых и боляръ сановных». Этот перечень завершают слова «Иаков Ослебятинъ, Пересвѣтъ чернець и иная многая дружина».24 Принадлежность Пересвета и Осляби к боярам и их предшествовавшая военная служба не могли, конечно, воспрепятствовать принятию схимы в монастыре Святой Троицы перед выступлением в поход к Куликову полю. Как известно, слово «схима» обозначало «монашеский чин, малый и великий иноческий образ».25 Сам игумен Сергий, очевидно, и удостоил двух выдающихся воинов-бояр пострижения в великий иноческий образ.
Принятию этой высшей ступени монашества должно было предшествовать пребывание в малом иноческом образе. Ослябя и Пересвет в Троицкий монастырь приехали, очевидно, не будучи еще монахами, а как воители, хотевшие обрести иночество в обители великого игумена прежде, чем отправиться, под знаменем великого князя, на решающий смертный бой с врагами христианства. Но, так как монахам вообще запрещено брать в руки оружие, для их участия в битве требовалось разрешение игумена. С просьбой об этом Дмитрий Иванович, очевидно, и обратился к Сергию. Игумен благословил Пересвета и Ослябю отправиться на сражение, возложив на них знаки великого иноческого образа.
Это отобразил соответствующий эпизод Повести о Мамаевом побоище, рассказывающий о пребывании великого князя в обители преподобного Сергия:
И рече ему князь великий Дмитрий: «Отче, дай ми два воина от полку своего – Пересвѣта и брата своего Ослабля, то тыи с нами сам пособствуеши. Старец же преподобный скоро повелѣ приготоватися има, яко довѣдомыи суть ратницы. И оны же послушание сотвориша преподобному старцу и не отвръгошася повеления его. И даст в тленых мѣсто оружия нетлѣнно – крест Христов, нашит на схимах, и повелѣ им мѣсто шоломов возлагати на себе. И дасть в руцѣ великому князю и рече: «Се ти мои оружници, а твои изволници». И рече: «Миръ вам, братие, стражите, добрыи воины Христовы». И всему православному войску даст знамение Христово – мир и благословение».26
Предания о подвигах на Куликовом поле монахов Пересвета и Осляби еще сравнительно слабо отразились в Повести о Мамаевом побоище при самом ее составлении, но влияли на позднейшие списки. Эти предания не успели попасть в Летописную Повесть о Куликовской битве при ее написании в 1386 году, но дальнейшая ее судьба в составе летописей и хронографов отчасти связана была с воздействием продолжавших бытовать и развиваться в устной традиции сведений о деяниях воинов-чернецов. Так, Хронограф редакции 1512 года, приведя перечень погибших в 1380 году, добавляет:
С ними же Александръ Предсвѣтъ и чернець Ослябя богатыри и инѣх множество безчислено. А там у них богатырь же былъ татаринъ, его же уби Ослябя, да и самъ отъ его ранъ умре».27
Фольклорная традиция перенесла на Ослябю сведения о подвиге и гибели Пересвета. Существенно, что фольклорные дополнения в списках Повести о Мамаевом побоище, детализирующие сведения о подвигах Пересвета и Осляби, изображают их именно как монахов. Приведу любопытный пример:
Видѣв же Пересвѣт чернецъ, иже в первом полку, и рече: «Сей человекъ ище себе подобна, аз хощу с ним видетись». Бѣ же шелом на главѣ старца аггельскаго образа воображен схимою по благословению игумена Сергия. И рече: «Отцы и братия, простите мя грешнаго!» И напусти на печенега, и рече: «Преподобныи Отче Сергие, помози много!» И напусти к татарину, аки стрела из лука, излегъ по коню своему с копием. Печенег же тако же к нему напусти. Христиане же кликнувше вси: «Боже, помози рабу своему!» Толико ударишася крѣпко, яко не возмогоша их кони удержать на себе, но сразишася крепко кони ихъ вмѣсто и падше умроша. Они же, воставшеся и схапавшеся под пазухи, оба одаришася о землю и ту оба скончашася. Токмо Пересвѣт на печенѣге лежит, всего разрази, сам же весь цѣл. И от сего мнози разумѣша, яко верьхъ великаго князя будет, еже и бысть.
<…> Ослебя же чернец возложиша на себя схиму и скоро выскочив ис полку своего с палицею желѣзною и ударися во всю силу татарскую и бия улицами, и к тому нѣ ведяху его, где и како умре. И сколько татар побил, того не вѣдяше, только видяще, улицами татаровѣ лежат. И познавше, яко бѣсчисленно приби их.28
Героические сказания о Куликовской битве, влиявшие многократно на тексты Повести о Мамаевом побоище, в устной традиции продолжали бытовать вплоть до Нового времени. Результаты эволюции таких сказаний представлены произведениями, которые были записаны уже в XIX веке собирателями фольклора в Архангельской губернии, на Алтае и от уральских казаков.29
Целесообразно продолжать и расширять смыкающиеся в своем существе исследования историзма эпоса и соотношения письменных средневековых источников с устными. Вторая тема прежде разрабатывалась мало и почти исключительно в направлении фольклористическом.30 Интенсификация подобных работ помогала бы корректировать неоправданно утвердившиеся представления.
Сергей Николаевич Азбелев,
доктор филологических наук, профессор
Перейти к авторской колонке