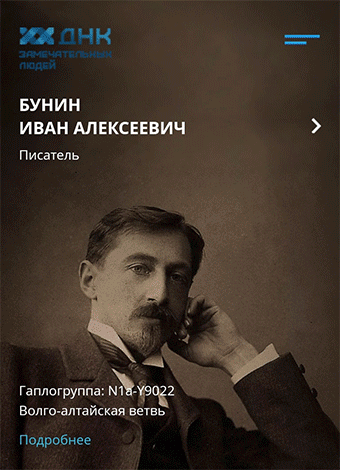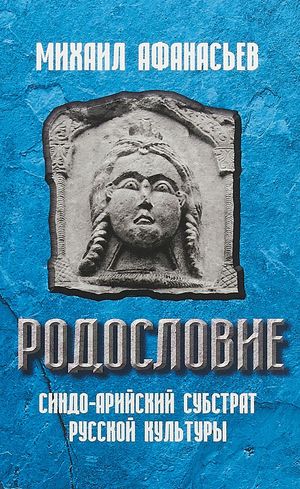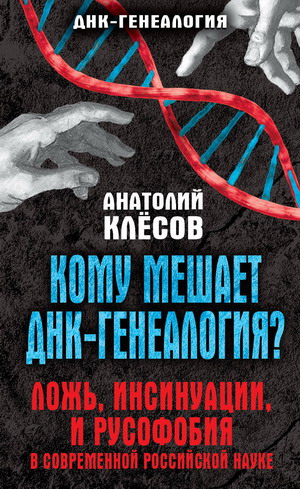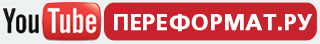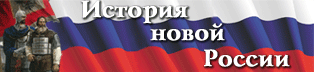Обозначать термином «Старый порядок» историю второй половины XVII – первой половины XVIII вв. в историографической традиции считается общепризнанным. Тем не менее, вслед за представителями новой исторической науки согласимся, что он все-таки не отражает все грани жизни многоликого и динамичного общества того времени, имеет некоторый оттенок отчуждения и обозначает существующее, реальное, через будущее, сквозь призму Французской революции, которая грянет в конце XVIII столетия и основательно изменит мир.

К тому же в понятии «Старый порядок» ощущается негативный оттенок, он представляется отжившим историческим феноменом. А ведь именно в то время возникали, чтобы в дальнейшем развиваться и приобретать все больший смысл, новые реалии во всех областях жизни, ставшие в наши дни классическими. Поэтому термин «Классическая Европа» представляется более точным для обозначения исторического периода второй половины XVII – первой половины XVIII вв.
П. Шоню, например, определил основное содержание этого термина как «возникновение ментальных структур будущей планетарной цивилизации в экономических, социальных и политических рамках, по-прежнему целиком пронизанных многовековыми традициями».1 Важно отметить, что на всем его протяжении в политическом и обыденном сознании жителей континента понятие «Европа» постепенно вытесняло понятие «христианский мир». Но еще более важно, что в это время в Европе для большинства государств политико-правовой реальностью стал государственный суверенитет, независимо от того, какую его сторону принимать во внимание – внешнюю или внутреннюю. Какие же процессы способствовали этому? Что лежало в его основе?
Хотя понятие государственного суверенитета было введено еще французским политиком и ученым XVI в. Жаном Боденом, первоначально оно сохраняло связь с европейским средневеково-ленным правом, обозначая, прежде всего, неограниченность власти верховного сюзерена в противоположность власти вассальных правителей. По Бодену суверенитет — это неограниченная и бессрочная верховная власть монарха в государстве, принадлежащая ему в силу его естественного права.2 Тем не менее, тогда регулирующее межгосударственные отношения в Западной Европе каноническое право признавало верховную власть только за папой римским. В следующем столетии многое изменилось.
Независимо от того, как мы понимаем историю, в ней имеют место долговременные цезуры, которые характеризуются, на наш взгляд, прежде всего такими качествами, как переход и адаптация. В принципе, любой переходный период, каковым и является ранний Модерн (XVI-XVIII вв.), – это время неопределенности, многоликости, динамичности, контрастности, аффектации, борьбы и созидания. Причем все эти характеристики общественного бытия могли иметь и положительные, и отрицательные стороны. Короче, это время приспособления к переменам, вызывающим у людей самые противоречивые чувства и реакции. Но адаптация отнюдь не предполагает абсолютной неустойчивости, и неустойчивость переходного общества ни в коем случае не отрицает довольно длительных периодов его стабилизации, пусть даже в форме т.н. «неустойчивого равновесия». К началу XVII в. возрождение системного хаоса создало всеобщую заинтересованность в серьезной рационализации властной борьбы со стороны европейских правителей и зарождавшейся буржуазной олигархии, имевших мотивы и способности, необходимые для того, чтобы взять на себя инициативу в обслуживании общего интереса – государственного.
Стабилизационный период, согласно современному немецкому историку Х.Д. Киттштайнеру, генерировался из «хаотического» времени и охватывал 1618-1715 гг. Именно в это время место конфессиональной борьбы за господство универсальной силы заняла рационально калькулированная борьба суверенных государств в рамках европейского равновесия. Европейские государи получили право конфессиональной свободы и право распоряжаться свободой совести своих подданных, а философия стала вытеснять теологию в мышлении интеллектуалов и государственников. Только в 1648 г. в документах Вестфальского мира был сделан шаг в сторону признания светских суверенных прав за всеми европейскими государствами, включая чинов Священной Римской империи.3 Этот шаг положил начало становлению современной системы, в которой суверенитет предполагается необходимым атрибутом любого государства.
С Вестфальским миром идея верховной власти или организации европейских государств сверху практически перестала работать. Вместо нее установилось представление о том, что все государства образуют единую политическую систему. Эта новая система покоилась на международном праве и балансе сил – праве, действующем между государствами, а не над ними, и силе, действующей между государствами, а не над ними. При этом отметим, что из трех международно-правовых метафор – «Вестфальский мир», «баланс сил» и «Европа» – только последняя в различных ее вариативных выражениях реально стала каноном международного права в XVIII в.4
Разумеется, с заключением не только Вестфальского, но и других мирных договоров середины XVII в. – Пиренейского (1659) и Оливского (1660)5, эпоха гармонии и всеобщего мира не наступила. Однако тогда была достигнута определенная стабильность, которая могла привести отношения между государствами и народами к новому политическому равновесию, и стали формироваться новые формы взаимного сосуществования, активно апробировавшихся в политике, экономике, культуре. Новым явлением стал мир «дворов и альянсов», который внутри- и внешнеполитически, в культурной сфере, в отношениях между государством и церковью, в экономической области и в науке достаточно отчетливо провел черту между поздним средневековьем и новым временем. И поскольку мирные договоры не стали инструментарием мира, его идеологи искали выход в создании нейтральных мирных зон и гуманизации войны.
В принципе, европейскую политику тогда уже можно было просчитать, чтобы найти адекватный ответ, что нашло отражение в правовой мысли века Просвещения. Во время борьбы европейских коалиций против «универсальной монархии» Бурбонов идеологическим базисом межгосударственных отношений становился баланс сил, ключевой идеей которого был не столько «мир», сколько «свобода», что привело к отказу от гарантов Вестфальского мира – Франции и Швеции – и системе Великих держав. Коррекцию правовой системы Вестфальского мира и переход к равновесию подготовила война за испанское наследство (1701-1714), а побочным эффектом этого перехода стало периферийное положение Империи, которая как единое целое перестала играть роль участника формирующегося концерта держав.6
Правда, в отношении оценок значения положений Вестфальского мира о территориальном суверенитете в современной исторической литературе ведется острая дискуссия. Не так давно общепризнанной была точка зрения, что суверенитет, предоставленный имперским чинам, был фактически полным, что привело к дезинтеграции Священной Римской империи и трансформации средневековых территориальных ленов в государства современного типа. Она легла в основу концепции Вестфальского суверенитета, т.е. системы организации власти, при которой государство обладает полным верховенством в пределах своей территории, политической независимостью во внутренней и внешней политике и является юридически равноправным в отношениях с иными государствами. Согласно этому представлению, именно Вестфальский мир заложил основы современного международного права и современной политической картины мира как совокупности суверенных, независимых и равноправных национальных государств. А принципиальное признание территориального суверенитета имперских сословий (помимо их традиционных привилегий) привело к их независимости от имперской власти, ограниченной лишь мало значившей оговоркой, запрещающей заключать международные договоры, направленные против императора. В результате Империя превращалась в империю князей, а император стал не более, чем первым среди равных.
В настоящее время такой взгляд на итоги Вестфальского мира подвергается критике: ряд современных исследователей, признавая роль Вестфальской системы в построении немецкого территориального государства, утверждают, что территориальный суверенитет, предоставленный договором имперским сословиям, лишь систематизировал старые права, привилегии, свободы, прерогативы и регалии, которыми они пользовались уже раньше. Право территориального суверенитета в значении Вестфальского мира подчеркивало сословные свободы, но не делало из имперских князей суверенных правителей. Немецкие территориальные княжества оставались по-прежнему в рамках единой конструкции, скрепленной имперской Конституцией, а полноправным сувереном продолжала оставаться Империя, а не ее члены. Германские князья, обладающие правом территориального суверенитета по Вестфальскому договору, пользовались независимостью в области внутренних дел, административного устройства и собственного законодательства, но по-прежнему считались вассалами императора и не могли заключать договоры с иностранными государствами, направленные против Империи. Кроме того, немецкий государь был обязан принимать участие в органах управления Империи, участвовать в расходах на содержание имперской армии и имперских учреждений, обеспечивать исполнение на территории своего княжества решений имперского рейхстага и других имперских органов.
Тем не менее, на практике уровень ограничения суверенитета зависел от военно-политической силы конкретного княжества. Например, король Пруссии в XVIII в. не участвовал в окружных собраниях, имперских расходах, не допускал исполнения на территории своих владений постановлений имперского суда и проводил независимую внешнюю политику, за исключением договорных обязательств во время войн. В других крупных имперских княжествах территориальный суверенитет также постепенно эволюционировал в сторону устранения ограничений независимости и расширения прерогатив территориальной власти.7
В русле современной историографии, склонной к опровержению устоявшихся «мифов», немецкий историк Х. Духхардт тоже основательно критикует понятие «Вестфальская система» и стилизацию договоров в Мюнстере и Оснабрюке. И не только в отношении статуса чинов Священной Римской империи. В первую очередь, он обращает внимание на то, что в германской исторической лексике и современных германо-американских исследованиях такого понятия нет, но оно активно используется в англо-американской историографии как устоявшийся факт, а не как дискуссионный термин. Особенно спорным, по мнению Духхардта, выглядит эмоциональное определение Вестфальской системы американским правоведом Лео Гроссом в 1948 г.: мол, Вестфальский мир открыл эру суверенных абсолютистских государств, не признающих высший авторитет. Впоследствии этот мотив, навеянный созданием ООН и других международных организаций, был развит в 1990-е гг., годы юбилея Вестфальского мира, и звучал так: Вестфальская конференция создала европейскую систему суверенных государств.
Духхардт выводит корни стилизации Вестфальского мира из сочинений его современников, развитых впоследствии в эпоху Старого порядка. На самом деле мир 1648 г. был призван создать порядок на части Европы, не разрешив ни франко-испанский, ни польско-русско-шведский, ни итальянский конфликты. Вместе с тем, историк согласен с тем, что «дух» Вестфальского мира имеет наивысшую ценность, когда идет речь о конце кровавого и бессмысленного конфликта и переходе от конфессиональной к рациональной политике. Наконец, процесс переговоров обозначил путь к мифу о самом Вестфальском мире, который обосновала общественность перед Французской революцией конца XVIII в. При этом старый миф о мире 1648 г. исходил не только из содержания договоров и многочисленных славословий, прежде всего, в протестантской части Империи, но и из создания долгоиграющей местной культуры памяти. Сегодня между старым, предреволюционным мифом и его новой трактовкой есть непосредственная связь, однако американские правоведы, историки и политологи используют модель большого формата в духе нового реализма и мировой политики США. Как видно, точка зрения ученого несколько эмоциональна и преувеличена, заметна его опора на немецкий и европейский материал и анти-глобалистская направленность, но она интересна неоднозначностью и дискуссионностью.
Согласно Духхардту, три столпа мифа о Вестфальском мире – государственный суверенитет, паритет и равновесие сил в Европе в строгом смысле не проистекают прямо из него, за исключением внутреннего и внешнего паритета государств (что тоже спорно, ибо имела место негласная иерархия государств, особенно заметная на переговорах). Немецкий историк приходит к выводу, что сегодня создан миф, который с реальными решениями архитекторов мира 1648 г. не имеет ничего общего¸ миф, опирающийся на модель эпохи Просвещения и всегда подвергавшейся критике.8
По сути, главным итогом войн «конфессионального века» (вторая половина XVI – первая половина XVII вв.) являлась секуляризация религии и политики. Нельзя не заметить, что во время Классической Европы качественные политические перемены охватили все уголки континента: их переживали как монархии – Англия, Франция, Испания, так и республики – Соединенные Провинции, Венеция. И Священная Римская империя уже не являла собой надгосударственный союз, ибо это было невозможно, хотя позднее ряд историков рассматривал ее как нацию в современном смысле.
Государство раннего Нового времени формировалось в Германии как территориальное, ибо имперская конституция после Вестфальского мира не определяла ее полный суверенитет над многочисленными княжествами, герцогствами и городами, а давало им свободу отношений друг с другом и другими европейскими державами. Кроме того, Империя частично внутренне модернизировалась на правовой основе, что диктовалось необходимостью войти в мир суверенных государств. А политические структуры, неспособные достичь, по Максу Веберу, «монополии легитимной силы», такие, как Речь Посполитая, становились легкой добычей для соперников, которые использовали признаки времени более эффективно. Успешное государство также нуждалось в адаптации к экономическим и социальным изменениям. Только те, кто преуспели в интеграции своих элит, могли конкурировать. Это можно было достичь через двор (проект Версаля), или через репрезентативную ассамблею, как английский Парламент, или через службу аристократии, как в Пруссии и России, или через комбинацию всех этих составляющих, как в Габсбургской монархии XVIII в.9
Теперь перейдем к не менее значимой и тесно увязанной с общеевропейскими процессами внутренней основе государственного суверенитета. В годы Тридцатилетней войны и после нее государственные структуры большинства стран европейской системы подверглись серьезной трансформации. В целом для внутриполитической жизни континента после кризиса середины XVII в., вызванного войной, был характерен всеохватывающий процесс монополизации, который привел к концентрации в руках носителей высшей государственной власти (иначе – у государства) всех важных политических полномочий.10
Этот процесс «традиционного расширения власти» имел место как в малом количестве государств, ставших на путь буржуазно-правовой трансформации, так и в преобладавших на континенте абсолютных монархиях. Только в первом случае монополизировали власть представительские структуры (Парламент в Англии, Генеральные Штаты в Республике Соединенных Провинций), а во втором – монарх и его министры. Монополизация, в свою очередь, включала в себя бюрократизацию, централизацию и милитаризацию государства. Последняя представляла собой создание на основе рекрутских наборов и инженерно-технических нововведений постоянных армий на службе существующей власти.
Итак, период стабилизации стал переходом к правовому государству при очевидной монополизации власти либо представительскими органами, либо монархами и их министерствами. Абсолютизм, какое бы содержание не вкладывалось в это понятие, отнюдь не препятствовал развитию права, как подчеркивается в современной литературе. В рамках абсолютистских государственных структур зарождались и развивались основные естественно-правовые понятия, ставшие правовыми основами современной цивилизации. Об этом свидетельствует хотя бы то, что интеллектуалы того времени уделяли особое внимание познанию современных им процессов и совершенствованию политико-правового учения.11 Наиболее ярким образцом стабильного государства переходной эпохи являлась Франция во время правления Людовика XIV (1643-1715), опуская, да и то с рядом оговорок, время министерства кардинала Мазарини до 1661 г.
Здесь же отметим, что дискуссия об эпохально-специфическом качестве государства раннего Нового времени никогда не «успокоится», и это вполне нормально, как считают историки. Исследователями Старого порядка системное понятие «абсолютизм» перманентно подвергается критике, доходящей до утверждения, что эту категорию следует вообще удалить из ряда исторических дискурсов. Также имеет место точка зрения, что понятие «абсолютизм» применимо только к Франции эпохи Людовика XIV. Но был ли абсолютизм мифом, и являлся ли абсолютизм французского короля «абсолютным»? Конечно, это понятие, не подвергавшееся критической оценке до 1830-х гг., можно рассматривать как анахронизм. Однако люди, жившие в XVII в., имели ясную концепцию абсолютной власти и столь же ясное представление, как Король-Солнце должен был создавать, и создавал ее. В силу этого на практике и в теории, на уровнях перцепции и реальности абсолютная монархия была отождествляемым феноменом, и отождествляемым с суверенитетом государства. Тем не менее, король и его министры в условиях примитивных коммуникаций, как физических, так и символических, отнюдь не преуспели во внедрении многого из того, что стремились достичь. Но Король-Солнце создал великолепную политическую культуру абсолютизма, воплощенную в Версале. Французский абсолютизм был не просто стилем, а средством воздействия. И это воздействие реально сказалось на государственном строительстве.12
Новые формы европейского бытия, и, прежде всего, монополизация власти, формировались в тесном взаимодействии методов адаптации и конкуренции. Следствием конкуренции и ярким примером адаптации как раз и являлась монархизация европейских правителей и государств. По сути, она была частью отмечаемого в литературе другого процесса большой значимости этого времени – подъема средних и малых государств, которые являлись неотъемлемой частью континента и стремились к суверенитету, обеспечивавшему их независимое существование. Ведь в конце XVII в. монархической государственностью, т.е. полным суверенитетом, обладали только Франция, Испания, Англия, Португалия и Швеция. В других монархиях, или «квази-монархиях» сословия в целом или круг выборщиков участвовали в передаче власти, как, например, в Священной Римской империи, Венгрии, Речи Посполитой, Дании и Папском государстве.13
Монархизация оказалась феноменом более широким и была характерна не только для средних и малых правителей и их территорий. Она включала в себя как превращение территориального или регионального княжества Германии или Италии (курфюршества, герцогства и т.д.) в королевство, а их правителей – в королей, так и обретение той же короны в другом государстве, а также повышение статуса правителя огромной территории в европейской системе государств.
Централизованное, бюрократизированное и во многом милитаризованное управление государством Классической Европы, подобно любой другой форме политики, было искусством возможного. К тому же, личные амбиции абсолютных правителей часто увеличивали их возможности, постоянно заставляя их стремиться к расширению своего влияния и повышению своего статуса среди других государств, что, безусловно, укрепляло их позиции и внутри страны. Так, шведский король Густав II Адольф, Великий курфюрст Бранденбурга-Пруссии Фридрих-Вильгельм I и русский государь Петр Великий радикальным образом изменили внутренний и внешний статус своих владений. В принципе, не будет слишком поверхностным утверждать, что абсолютные монархии усилили государство раннего нового времени в территориально-политическом, правовом, экономическом и культурном отношениях.
Новый после Вестфальского мира политический порядок преломлялся через высшую государственную власть – монархическую или республиканскую – и взаимное сцепление всех звеньев этой власти: институционализации, бюрократизации, божественного и естественного права, постоянного контроля и социального дисциплинирования, т.е. принуждения к единообразию с целью формирования государственного подданного. Однако монархизация, шедшая параллельно с усилением власти и суверенитета европейских государей, ассоциировалась в глазах большинства современников с порядком и спокойствием, а республиканизация – с отсталостью, с одной стороны, и кризисом и анархией, с другой. Будущее государств нового времени и отношений между ними заключалось не в старой иерархии в рамках Европы, и монархизация стала одним из тех методов, которые должны были сломать эту старую иерархию понятными ей способами.
Фундаментальная разница между двумя политическими системами – республиками и монархиями, исходившая из отсутствия или существования дворов, высшего общества и соответствовавшей ему культуры, являлась одной из характерных черт Классической Европы. Двор как институт и форма существования переживал взлет, ему принадлежало бесспорное первенство в политике и моде, тогда как республики представлялись либо опасными, либо старомодными, отсталыми и неразвитыми, тогда как современная историко-политическая традиция исходит как из опыта республик, так и монархий. Во всей Европе монархия, как институт, была нормой. Большинство образованных европейцев, несмотря на критику современных им реалий, полагало, что монархия является наилучшей формой правления. Именно от государей ожидали справедливого и эффективного управления страной. В Классической Европе государство и его суверенитет в большой степени идентифицировались с династией, и только с начала XIX в. оформляется определение государства в современном смысле.
Легитимация государя в раннее Новое время не только основывалась на его личности и демонстрировалась им – ее основы создавались правом. Как свидетельствовали сами современники, государи нуждались в законе, что было феноменом, который можно назвать «легализмом» и зерном государственного строительства раннего Нового времени.14
Кроме того, слава и репутация королей, осуществлявших репрезентативную функцию в государстве, значила очень много, и не случайно в мировой историографии очень распространенной является точка зрения, согласно которой внутренняя жизнь государств Старого порядка и отношения между ними определялись преимущественной военными факторами. Войны в «придворно-организованной» Европе раннего Нового времени были войнами монархов между собой и несколькими суверенными республиками, такими, как Соединенные Провинции, Швейцария или Венеция. Война являлась «носителем политического решения» и не только международного порядка, но и, возможно, прежде всего, внутреннего. При этом милитаризация власти диктовалась отнюдь не единственным желанием прославить династию славными войнами, а частью монополизации, насущной потребностью в целях ее укрепления внутри государства и расширения политического влияния, вплоть до гегемонии, за его пределами.
Мнение это имеет под собой солидную основу: к примеру, при прославлении в официальной историографии ведущих европейских династий XVII в. – Бурбонов и Габсбургов – исключительное значение имел внешнеполитический аспект. Французский король Людовик XIV и император Священной Римской империи Леопольд I старались предстать как спасители Европы и рыцари христианства, не будучи при этом Roi-Connetable, и в этой связи являли образ не полководца, а триумфатора. В случае войны конкурирующая стратегия этих династий в рамках политического образа выражалась в вопросе: Марс или Юпитер? Защитник Юпитер или воинственный Марс были не случайными мифологическими образами, а политической программой окружения Леопольда и Людовика. Их образы и, следовательно, легитимация войны, вступали в противоречие с правовой мыслью того времени – концепцией правовых войн и христианской теологией, о чем свидетельствовал интерес к работам Гроция, Селдена, Лейбница, Боссюэ, Сен-Пьера и др.15
В заключение скажем, что два источника власти – экономическая и военная – уже в XVIII в. определили общественную структуру западного общества. Оба источника были тесно связаны друг с другом, но ни один не имел преимущества перед другим. Государства Нового времени кристаллизировались в многочисленных переплетавшихся друг с другом основных формах. Во взаимодействии политической силы и внутри- и межгосударственных конфликтов формировалось, во-первых, «представительское» государство, выросшее из автократической монархии в партийную демократию; во-вторых, централизованное «национальное» (этническое) государство и локальные федеративные системы.16
Людмила Ивонина,
доктор исторических наук
Перейти к авторской колонке