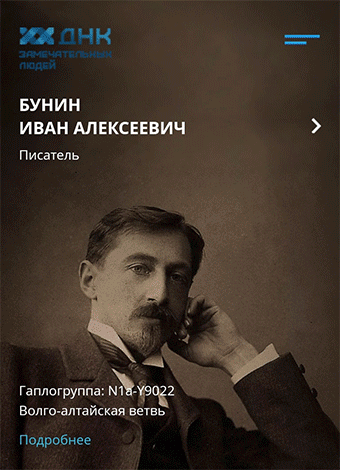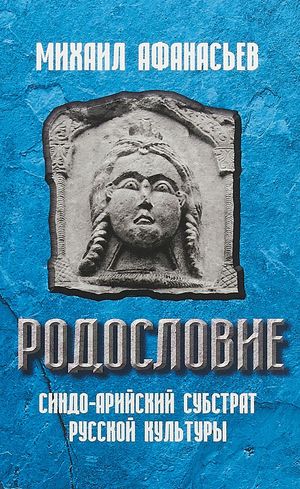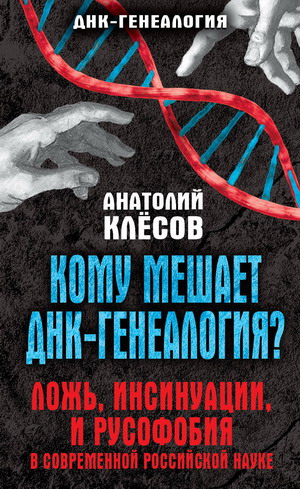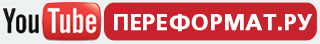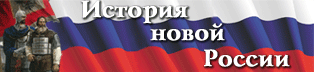Последнее десятилетие советской истории, предшествующее перестройке, принято называть «застоем». Так определяются процессы, проистекавшие преимущественно в общественно-политической и социально-экономической сферах. Между тем «застой», конечно, более сложное и по содержанию, и по структуре явление, в котором отчетливо проявляются некоторые свойства переходных периодов. Внешне феномен «переходности» предстает в историческом сознании как динамическая картина стремительных перемен. Перестройка 1980-х годов в этом плане выглядит гораздо более убедительным подтверждением, происходящих в обществе изменений. Но в не меньшей, если не в большей степени, проблемы «переходности» следует изучать и на материалах более «спокойных» эпох, когда происходит внутреннее накопление энергии последующих исторических сдвигов. Латентная форма такого рода переходности может быть достаточно продолжительной и устойчивой и едва ли уловима для обычного взгляда. Здесь требуется иной инструментарий, иная оптика и настройки. Между тем, неотвратимость надвигающихся тектонических сдвигов уже ощущается в атмосфере, прежде всего, в духовно-культурной сфере.

Общество живет ожиданием грядущих перемен. Но самое важное, что эти перемены, их возможные траектории и векторы развития намечаются вполне определенно именно в период «внутренней переходности», наблюдаются в ряде признаках и отражаются на ментальном уровне. Запускается механизм переоценки ценностей, прежняя аксиологическая картина мира приходит в несоответствие с ожиданиями людей, с их настроениями и устремлениями. Поисками выхода из духовно-нравственного кризиса и оздоровления всего социального организма особенно активно в этой ситуации призвана заниматься интеллектуальная элита общества, и от того насколько ответственно и глубоко она представляет и продумывает возможные сценарии будущего перехода зависит и само это будущее. Неслучайно, переходные эпохи отмечены проявлением устойчивого интереса к проблемам темпоральности, когда осмысление времени (и пространства тоже) как философской и художественной категории, становится одной из центральных и в науке, и в искусстве.
Творческое наследие Андрея Тарковского в кинематографе, опыт его понимания и теория кино как «запечатленного времени», заслуживают внимательного отношения, поскольку открывает новые перспективы в междисциплинарных исследованиях, в том числе в области исторического знания.
Автор настоящей статьи попытается применить герменевтический метод для истолкования жизненного пути великого режиссера, его человеческой и творческой биографии. Подобное расширение, на наш взгляд, вполне оправданно и применимо для исторического исследования. Ведь история – это и есть истолкование прошлой жизни, попытка ее понимания и обретение смысла прошедших событий. Интерпретация исторического прошлого или, как выразился В.Л. Махлин1, герменевтическое истолкование «мира жизни» и культуры всегда составляла и составляет основное содержание ремесла историка. Использование герменевтического метода применительно к анализу творчества Тарковского весьма успешно было продемонстрировано Д.А. Салынским, в недавно изданной фундаментальной монографии.2
Основное значение фильма «Зеркало» (да и всего кинематографа Тарковского), как нам представляется сегодня, – это попытка художественными средствами восстановить историческую связь времен, вернуть человеку память, обратить его к своим истокам, к своему дому, к матери, к детству, к своей духовной сущности, к своей культуре и истории. И в этой «обратной перспективе», в возвращении к самому себе, когда «все еще впереди и все возможно», человек находит внутреннюю свободу. Память неподвластная внешней силе, помогает творить свободную личность. Происходит, как утверждал Л.П. Карсавин «воскресение через воспоминание».
«Обратная перспектива» в таком значении есть выражение особого ракурса и особого взгляда, взгляда из высшего измерения. Соединяя потоки непрерывности движения отечественной и мировой культуры, Тарковский в своей картине возвращает советскому человеку середины 1970-х годов возможность надежды и веры, закладывает основы будущего духовного возрождения (а вслед за тем и политического, если угодно). Причем, осуществление последнего становится не менее сложной задачей и для отдельного человека, и для страны в целом. Оказывается, что этот процесс определяется своим конкретно-историческим контекстом и его отношением с общим потоком времени, не осмыслив и не учтя который, нельзя и обрести эту желанную политическую и гражданскую свободу.
Творческую и общечеловеческую заслугу Андрея Тарковского трудно переоценить. На глазах у зрителя и вместе с ним он проводит человека по переходу из одного состояния в другое, из советского времени «застоя» в пространство и время высокой духовности и культуры, в том числе дореволюционных отечественных традиций. Как показано в его следующем фильме, «зона Сталкера» и есть момент перехода и момент истины, которую «нельзя преподать, но которую надо пережить». И процесс переживания, совпадавший с экранным временем всех его картин, был только прологом к последующему долгому пути человека к своему спасению, к истине, вере и любви.
Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 года в старинном селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской Промышленной области (ныне Кадыйский район Костромской области).3 Честь считаться родиной великого режиссера до сих пор оспаривают Ивановская и Костромская области. Сам факт рождения москвича Тарковского на Волге требует и своего пояснения, и своего понимания, предполагает дешифровку нескольких кодов: событийно-онтологического, символико-метафизического и историко-культурного. Все они могут явиться ключами к решению такой проблемы как время и место рождения человека и роль этого первоначального личного хронотопа в последующих событиях жизни и творчества художника. Но прежде о самом годе рождения.
1932 год был последним годом первой сталинской пятилетки, годом 15-летия советской власти, а также високосным годом, начинавшимся в пятницу по григорианскому календарю. Год этот вошел в историю как год противоречивый, год несбывшихся надежд, но в чем-то и реализованных альтернатив одновременно. События этого года до сих пор остаются до конца непонятыми и неоцененными историками. С одной стороны, в стране нарастали экономические трудности, грозившие обернуться серьезными хозяйственными проблемами. Население испытывало крайнюю степень нужды. Уже в начале года в ряде регионов появились первые признаки массового голода. Собранный урожай оказался много ниже, чем ожидалось. Потребление на душу населения в этот год дошло до самого нижнего предела за все время довоенных пятилеток (1928 – 1940). Весной 1932 года в связи со снижением норм карточного снабжения хлебом начались антиправительственные выступления в городах. В Ивановской области массовые выступления и демонстрации трудящихся, сопровождались «эксцессами по отношению к коммунистам и местным органам власти».4 С другой стороны, на этом фоне весна-лето 32-го были отмечены очередным виражом во внутренней политике большевиков, попыткой смягчения нажима на население, возвращением некоторых принципов нэпа, получившим в историографии название «нэонэп». По мнению ряда историков, именно кризисная ситуация со снабжением продовольствием способствовала отрезвлению партийного руководства и последующему изменению курса. Но это в экономике. В идеологии и культуре намечался иной поворот.
Одной из загадок считается поведение Сталина. Состоявшаяся в январе-феврале 1932 года ХVII партийная конференция прошла без особой конфронтации. Для многих партийцев было удивительным, что генсек на этой конференции не выступал, более того, и в последующие месяцы Сталин хранил многозначительное молчание. Пауза в юбилейный, 15-й год Октябрьской революции, явно затягивалась. А сам праздник 7 ноября отныне и навсегда для вождя стал мрачным напоминанием о его личной трагедии. 8 ноября покончила жизнь самоубийством жена Сталина – Надежда Сергеевна Аллилуева. Это событие, несомненно, оказало глубокое последствие на внутреннее состояние вождя, усугубило его и без того тяжелый характер новыми негативными чертами. Некоторые исследователи склонны связывать с этим трагическим фактом последующее внутриполитическое развитие страны, в частности, «Большой террор» 1937-1938 гг.
В 1932 году внутри ВКП (б), по мнению историка Ю.Н. Жукова, начинается процесс создания принципиально новой партии (по сути, не коммунистической, а национально-государственной). Начало этого движения он связывает с двумя внешне противостоящими друг другу решениями, а на деле означавших всего лишь два способа решения этой самой главной задачи – внутрипартийной трансформации. Итак, в 1932 г. возобновляется запрет на прием новых членов и кандидатов в члены ВКП (б) и об очередном наступлении на оппозицию, бывших троцкистов и зиновьевцев. В октябре Зиновьева высылают в Кустанай и Каменева в Минусинск.5 Добавим также, что 3 апреля 1932 г. Троцкого, высланного еще в 1929 г. из СССР, лишают советского гражданства. Уже после убийства Кирова именно на этот 1932 год, как было позднее заявлено следствием, выпадает создание «троцкистско-зиновьевского блока».
Еще одна смерть видного большевика, вернее отношение к ней власти, определенным образом характеризовали начавшийся идейный поворот. 10 апреля 1932 г. в Москве скончался глава «марксистской исторической школы в СССР» академик Михаил Николаевич Покровский (1868 – 1932). Официально было принято решение об увековечении его памяти, прах в урне помещен в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве, его имя присвоено ряду учебных заведений, в том числе и МГУ. Но уже спустя некоторое время его теории подверглись жесткой критике. Прежде всего, в вину покойному ставились его «вульгарный социологизм», а также антипатриотическая схема отечественной истории. С проявлениями «очернительства истории России» теперь следовало бороться и в науке, и в идеологии, и в культуре. К этому призывало и известное постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г., наметившее реорганизацию классовых «пролетарских», подчеркнуто революционных, объединений писателей, художников, архитекторов и композиторов, которые отныне объявлялись левацкими и нигилистическими по отношению к национальному культурному наследию.
Отметим еще примечательные, с нашей точки зрения, события-символы общественной и культурной жизни 1932 года, дополняющие воссоздаваемую нами образную панораму. Так, 29 апреля вышел из Ленинграда и 1 мая прибыл в Долгопрудный первый, построенный в стране дирижабль, названный «СССР В-1». В Долгопрудном уже был создан «Дирижаблестрой» и в мае здесь были смонтированы новые аппараты серии «СССР» В-2 «Смольный» и В-3 «Красная звезда». Эти дирижабли мягкого типа предназначались для агитационных полетов и обучения экипажей дирижаблей. 7 ноября 1932 г. во время торжеств четыре советских дирижабля пролетели над Красной площадью.
В «Зеркале» показана хроника подготовки и взлета советского стратостата (аналога дирижабля). Д.А. Салынский пишет, что «эта реальная и зафиксированная в кинохронике история стала достоянием советской романтизированной культуры», указывая на последующие затем катастрофы, он причисляет их к корпусу советской героической и трагической мифологии.6 Образ, найденный режиссером, можно рассматривать также как и метафору всей советской эпохи, с ее пафосом устремленности в высь. И вместе с тем, той эпохи, когда у человека ускользает родная почва из-под ног, или когда он лишается очень важной духовной опоры внутри себя.
Другой факт из биографии художника Александра Дейнеки, в которой 1932 год занимает особое место. Наряду с картинами, воспевающими успехи советской авиации («В воздухе», «Бомбовоз», «Гражданская авиация») он создает два шедевра «Мать» и «Спящий мальчик с васильками». Работы мастера о счастливом и светлом мире детства, наполненные торжеством и радостью земной жизни, в чем-то по своей тональности и настроению удивительно близкие фильмам Тарковского.

Для советского кинематографа 1932 год тоже стал во многом знаменательным годом. Из-за границы после длительной командировки в СССР возвращается С.М. Эйзенштейн, он назначается заведующим кафедрой режиссуры ВГИКа, в 1961 г. ее с отличием окончит Тарковский. А.П. Довженко в 1932 г. снимает фильм «Иван», получивший в 1934-ом приз МКФ в Венеции. Через 28 лет, в 1962 году, его успех повторит молодой Андрей Тарковский, получивший своего «Золотого льва» за картину «Иваново детство».
Итак, 1932 год стал годом рождения режиссера, который в своем творчестве восстанавливал национальные и мировые культурные традиции в кинематографе, противостоящие идеологии не только тоталитарного общества, но и общества потребления современной цивилизации, с их пренебрежением к духовной стороне жизни человека, проблемам его внутреннего мира и нравственного выбора.
…Весна на Волге в тот год выдалась дружной, и хотя до апреля у Костромы и Кинешмы намного верст, вверх и вниз, река оставалась неподвижной, но по всем приметам было ясно – ледоход уже скоро начнется. Так, неведомые для человека силы природы властно заявляли о своем пробуждении, о продолжении вечного круговорота жизни.
Рождение человека – таинство и торжество. Явление на свет Божий – это и событие истории, и начало жизни. Сакральный акт и факт повседневности. Старт биографии и звено в бесконечной веренице людских судеб, в эстафете поколений, соединяющих именно тех, благодаря кому рождаешься именно Ты.
Человек приходит в мир во времени, проживает свой век и уходит в вечность, которая всегда рядом с ним, за порогом бытия. Иногда вечность подступает совсем близко, и тогда отчетливо слышны ее шаги, ее дыхание ощущается всем нашим существом, ее грани проступают так явственно, что можно рассмотреть ее контуры, силуэты, изломы. Вечность и время пересекаются, и пересекаются не в одной, а в нескольких точках. Это пересечение и есть пространство человеческой души.
Будущие родители Арсений Александрович и Мария Ивановна Тарковские засобирались из Москвы заранее. В последних числах марта 1932 года, за месяц до назначенного врачами срока рождения ребенка, они отправились в дорогу, к родным в деревню, на Волгу. Сборы и хлопоты были недолгими. Всё уже давно было решено и оговорено много раз. В городе рожать сейчас нельзя – не то время. С продовольствием в столице не становилось лучше, так что введенное в 1929 г. снабжение по карточкам едва ли позволяло населению сводить концы с концами. Те же из немногих горожан, кто был свободен от постоянной службы, не занят был круглые сутки на работе, использовали любую возможность заняться самозаготовкой продуктов, уехать за город за пропитанием в деревню, к огородам. Да и пожить поэту с семьей хоть немного на Волге совсем не то, что пребывать целое лето в этой шумной, душной и суетной Москве.
В селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области жили Марусины мать и отчим – Вера Николаевна и Николай Матвеевич Петровы. Отчим работал в местной больнице врачом, и рожать под его присмотром всем казалось более надежным. Для самого же Николая Матвеевича рождение внука сопровождалось серьезными эмоциональными переживаниями, едва не стоившими ему жизни. По предположению московских медиков получалось, что время родов выпадало на 20 числа апреля. Однако дорожные обстоятельства внесли свои поправки в дату рождения будущего великого режиссера, родившегося раньше срока, в ночь на 4 апреля, с воскресения на понедельник, дома, на обеденном столе. В Завражье прошли первые месяцы жизни Андрея, здесь его крестили в летнем, Богородице-Рождественском храме. Крестным отцом стал друг семьи, Лев Владимирович Горнунг, «провидец и поэт», как назвал его Арсений Тарковский. Его сохранившиеся фотографии крестника, Марии Ивановны Вишняковой-Тарковской, Завражья и Юрьевца тех лет удивительным образом ожили на экране «Зеркала», да и в целом очень сильно повлияли на формирование видеоряда кинематографа великого режиссера, его художественного миросозерцания.
В конце сентября 1932 года маленький Андрей с мамой покинули счастливое пристанище и отправились в Москву. Еще раньше, в конце июня, по неотложным делам уехал в столицу Арсений Тарковский. В жизни и творчестве отца и сына Завражье останется тем местом, куда они часто возвращались в своих художественных образах. Большие горизонты, открывающиеся здесь взору, приближали человека к небу и были так необходимы только что рожденной душе Андрея, чтобы почувствовать простор и вырваться на свободу. Заложенная ещё в детстве способность к панорамному видению мира помогла будущему художнику формулировать широкие проблемы истории и культуры, жизни и смерти, Бога и человека в искусстве. И в духовном пространстве Андрея Тарковского Завражье — Юрьевец — Волга навсегда останутся его малой родиной, начальной точкой жизненного пути.
Довольно примечательный курьез, связанный с разночтением по поводу места своего рождения внес сам режиссер. В разных документах он называл местом своего рождения то село Завражье, то город Юрьевец. Путаница, несвойственная Тарковскому, заставляет задуматься.
Оба населенных пункта находятся друг напротив друга, через Волгу. Завражье на левом ее берегу, Юрьевец на правом. До революции 1917 г. и село Завражье, и город Юрьевец относились к Костромской губернии, особо почитаемой в царское время как колыбель Дома Романовых. В 1932-1944 гг. эти места входили в состав Ивановской Промышленной области с центром в Иваново-Вознесенске – родине первого Совета. Позднее административные границы прошли по Волге, разделив единое пространство, поглощенное к тому же Горьковским водохранилищем. Завражье отошло в восстановленную Костромскую область, Юрьевец остался в Ивановской. Такое территориальное деление в основном сохранилось до наших дней.
Символика «перехода» вполне угадывается за всеми административно-территориальными изменениями. Левый берег, костромской, – берег царский, старой дворянской стороны, правый берег – советский, новой страны трудящихся. «Русский Нил», как называл В.В. Розанов Волгу, разделяет пространство и время не только географически или исторически, но и метафизически. Но своим рождением, своим творчеством Андрей Тарковский соединил оба эти берега, восстановил единство истории, культуры, связал пространство и время в единое целое. И действительно, пора детства и отрочества Андрея, совпавшая также с годами пребывания в эвакуации в Юрьевце (1941-1943), проходила в Ивановской области.
Н.Ю. Замятина в интересной публикации об образе родины в фильме «Зеркало» определяет ось Юрьевец – Завражье через оппозицию голодного города, из которого мать с сыном идут продавать фамильные сережки, его деревенскому антиподу Завражью (и хутору Игнатьево) – места рождения и счастья. Исследовательница полагает, что внутри «пары» Юрьевец – Завражье Юрьевец несет отрицательную нагрузку, оценивает город как «место голода, откуда мать и сын выходят на унижение; место несчастья, испытания».7 Но в картине эпизод с серьгами и час испытания (и не только испытания!) происходит в обустроенном в бытовом отношении доме богатой докторши (в исполнении Л.П. Тарковской, жены режиссера), расположенном на заволжском берегу. Именно здесь показано столкновение духовного и материального в человеке, а сын (герой фильма Алексей) в этот момент переживает необычную встречу со своей судьбой, с собой в будущем буквально преображаясь на наших глазах в своем зеркальном отражении. Так что метод прямой дихотомии «город – деревня» здесь не вполне применим. Образы и символика Тарковского многомерны и не поддаются однозначной интерпретации. Да и в реальной биографии семьи Тарковских оба берега существуют не столько в противопоставлении, но и в своей взаимной обусловленности, связи и единстве. В воспоминаниях М.А. Тарковской, сестры режиссера, другой берег Волги не раз спасал семью, а уже упомянутый эпизод с серьгами запомнился ей другим: «Как-то мама опять пошла за Волгу и опять взяла с собой серьги. Вместо них она принесла меру картошки».8
Мера картошки как мера жизни. Образы детства, хранящиеся в памяти, остаются в нашей душе навсегда, составляя то самое сокровенное, самое ценное, что определяет основу человеческой личности, ее индивидуальность, уникальность внутреннего мира, его структуру и глубину. Потом эти образы сопровождают нас, всплывают перед нами как напоминание о светлой поре нашего безгрешного существования, о рае, в котором мы уже когда-то побывали, с надеждой вернуться туда еще раз и обрести утраченное.
Возвращение, если оно, в принципе, и возможно, происходит в творчестве, в сфере искусства. Отец Павел Флоренский, тоже, кстати, имевший завражские корни, полагал, что искусство передает зрителю чувство жизни как «откровение подлинно иной реальности, которую, раз узнав от художника, мы далее знаем уже сами по себе, ибо видим ее теперь уже своими глазами».9 С этим феноменом мы сталкиваемся всякий раз, когда просматриваем фильмы Тарковского, всегда открывая что-то новое для себя. Его картины живут своей особой жизнью, в своем особом художественном пространстве и времени, устремляясь в вечность благодаря и нашему восприятию.
Так, пространство-время художественного произведения перетекает в пространство-время души, находит свое продолжение во внутреннем мире человека, становится неотъемлемой частью его личности. Причем обычные законы хронологии и топологии здесь уже не действуют, классические принципы механики и пространственно-временная логика не в состоянии описать эту «обратную перспективу» духовного континуума.
Время художественного произведения не течет постоянно равномерно и независимо от человека, а многомерность пространства открывается ему только в акте живого со-единения, со-творчества с произведением искусства. Тарковский неслучайно любил повторять, что зрители его картин – соавторы его фильмов, а его задача как художника открыть для них возможность сотворчества.
В «Зеркале» Тарковский нарушает эту прямую логику последовательного изложения событий, предложив иконичную структуру организации пространства-времени картины, основанной на обратной перспективе. Линейное построение не способно передать многомерность и многозначность прошедших событий, и их последующее существование в потоке авторского сознания. Стремясь его визуализировать, режиссер использует сновидения своего героя, благодаря чему на экране возникает эта многомерность и глубина. Присутствие «здесь и сейчас» всегда имеет свой контекст, связанный с культурно-историческим процессом, и свой подтекст, открываемый в сфере ассоциаций и бессознательного героев и зрителя. Но есть еще и мегатекст кинематографа режиссера, спроецированного на другое измерение – бесконечного и вечного, того, что и одухотворяет творчество, порождая произведение искусства, и наполнет их жизнью.
Для Андрея Тарковского эта проекция имеет особый фокус художественного образа. «Художественный образ, – записал в своем дневнике режиссер 3 февраля 1974 года, – образ, обеспечивающий ему развитие самого себя, его исторической перспективы. Следовательно, образ – это зерно, это саморазвивающийся организм с обратной связью. Это символ самой жизни, в отличие от самой жизни. Жизнь заключает в себе смерть. Образ же жизни или исключает ее, или рассматривает ее как единственную возможность для утверждения жизни. Сам по себе художественный образ – это выражение надежды, пафос веры, чего бы он ни выражал – даже гибель человека. Само по себе творчество – это уже отрицание смерти».10 Через пять лет он дополняет: «образ – это впечатление от Истины, на которую Господь позволил взглянуть нам своими слепыми глазами».11 Внутренне духовное зрение дается человеку, чтобы прозреть и открыть Истину. Но это открытие или откровение предполагает, по Тарковскому, совершение поступка, сопоставимого с нравственным подвигом, который поможет человеку осознать себя в культуре, истории, вечности.
Художественное творчество Андрея Тарковского ярко персоналистично и религиозно одновременно. Человек и его внутренний мир всегда в центре внимания режиссера. В этом, безусловно, прослеживается глубинная связь с русской культурной и духовной традицией, прежде всего, с творчеством Ф.М. Достоевского. Но не только с ним. Так или иначе, художественный мир Тарковского буквально пронизан токами национальной и мировой культуры, ее гуманистическими идеалами. И вместе с тем Тарковский – религиозный художник. Его представления о человеке и о его месте и роли в мире определены его отношением к нравственному Абсолюту, Истине, Богу. Вопрос о личном характере религиозного мировоззрения режиссера, на наш взгляд, нуждается в специальном рассмотрении, здесь же отметим, что герои его кинематографа показаны в моменты их нравственного выбора, направленного на восстановление этой высшей сакральной связи внутри и вне себя. Очевидно, и для Тарковского лично эта проблема представлялась очень важной, о чем свидетельствуют не только его фильмы, но и дневник, названный им «Мартирологом». В этом нам также видится очень важный признак «переходности». Именно этот процесс и исследует Тарковский как художник и мыслитель.
В первом полнометражном фильме Тарковского «Иваново детство» (1962) реализуется идея о человеке как абсолютной ценности бытия, придающей смысл существованию всему миру. И в то же время возникает устойчивая ассоциация с мыслью Достоевского об утрате гармонии, если она основана на «слезе ребенка». Уже в этой картине появляется очень важная для всего творчества Тарковского тема сиротства и невозможности возвращения к родному берегу, в дом детства. Трагедия войны не только лишает ребенка семьи, мира и счастья бытия, но и глубоко уродует его душу, обретаемую им только в его снах, в полете в вечность. В «Андрее Рублеве» (1966-1971) Тарковский говорит о месте человека в мире, о его творческом предназначении, о сохранении и передаче этого высшего дара людям и миру. В картине религиозные и творческие устремления в жизни человека сплетаются в неразрывное духовное целое, и едва ли не впервые в советском кинематографе возникает образ Христа. Так режиссер определяет единственно возможный путь возвращения человека к своей сущности через путь к Богу.
В «Зеркале» (1974), считающимся самым исповедальным фильмом Андрея Тарковского, процесс воспоминаний героя, его осмысления жизни на пороге своего ухода из нее, показан в контексте и собственной биографии, и истории страны. Тарковский воссоздает внутренний мир человека, процесс его духовного развития от детства к зрелости и, наоборот, в обратную перспективу. В фильме он показывает подвижность индивидуальной памяти и её различных пластов и образов, одновременное присутствие в ней близких и бесконечно родных людей, его семьи, друзей и знакомых, связанных общими переживаниями, общими токами национальной и мировой культуры и истории.
Присутствие высшего начала в пространстве картины достигается особым методом съемки (работа выдающегося оператора Г.И. Рерберга) как бы «со стороны», из духовного измерения. Этим достигается взгляд на мир и человека как на единое целое, достигается способность видеть и созерцать эту цельность снаружи и изнутри, в утреннем рассветном тумане и в вечернем закатном солнце, в радости летнего дня и постепенном его угасании, в мерцании света. Работа оператора и художника (Н.Л. Двигубский) точно соответствовали замыслу режиссера сделать кинематографический образ бесконечным, многомерным, позволяющим зрителю углубиться в него, как в распахнутое в доме окно, как в зеркало, отражающее мельчайшие детали живой жизни. Отсюда и постоянно возрастающий эффект познания неизвестного при каждом просмотре фильма. Но не только визуальная картина или музыкальное сопровождение видеоряда дают нам ощущение этого «невечернего света», исходящего с экрана. Сама драматургия фильма, жизнь его героев, их поступки, слова, жесты заставляют нас открывать новые смыслы, значения, ценности, погружаться в обратную перспективу «Зеркала». Так, например, совсем недавно на 37 минуте фильма в эпизоде с испанцами я поймал себя на мысли, что на мгновение появляющийся в кадре человек своим ликом подобен Христу. Увидеть в ближнем своем, в любом человеке образ и подобие Божия – разве не в этом высокое предназначение искусства?

Совершенно неожиданным стало возвращение к теме родины, утраченной и обретенной в той же сцене с испанцами. Когда на вопрос Натальи, жены Алексея (роль М.Б. Тереховой), обращенной Луисе, вернется ли она в Испанию, та отвечает, что это невозможно, что ее «муж – русский и дети русские». Испанка – мать русских детей, остается, в России. Другими словами, место человека в мире определяется не только его личным выбором, но обусловлено множеством связей и отношений, непосредственно культурой и историей.
Не осознав этого, не вписав себя всякий раз в исторический и культурный контекст эпохи невозможно и возвращение к себе как личности. В литературном сценарии «Зеркала» так описано это состояние невозможности возвращения: «И снова я иду мимо разрушенной баньки, мимо редких деревьев по Завражью, все так же, как и всегда, когда мне снится мое возвращение. Но теперь я не один. Со мной моя мать. Мы медленно идем вдоль старых заборов, по знакомым мне с детства тропинкам. Вот и роща, в которой стоял дом. Но дома нет. Верхушки берез торчат из воды, затопившей все вокруг: и церковь, и флигель за домом моего детства и сам дом. (…) Неторопливая, трепетная радость возвращения медленно, словно кровь у смертельно раненного, вытекает из нашего сердца, уступая место горькой и тоскливой опустошенности. До нас долетает низкий и хриплый гудок парохода… Не стоило приезжать сюда. Никогда не возвращайся на развалины – будь то город, дом, где ты родился, или человек, с которым ты расстался. Когда построили Куйбышевскую ГЭС, Волга поднялась, и Завражье ушло навсегда под воду…».12
Родина не исчезла полностью, но за годы изменилась и стала другой. Меняется и сам человек. Что можно противопоставить этому опустошающему человека бегу времени? Ему нужно зеркало, нужен сам человек, его память, как зеркало истории и культуры. Так проблема индивидуальной памяти и идентичности личности человека, подробно исследуемая режиссером в «Солярисе» (1972), получает свое дальнейшее разрешение в «Зеркале» через освоение историко-культурного пространства России и сохранения связи с ним.
Центральный эпизод фильма – чтение Игнатом письма Пушкина к Чаадаеву. Этот эпизод заменил собой сцену битвы на Куликовом поле, которую Тарковский собирался снять еще в «Андрее Рублеве», а затем планировал поставить ее в «Зеркале». По разным причинам от нее пришлось отказаться. Показателен кадр, на котором изображено тающее пятно на поверхности стола, след от только что убранного предмета. Кадр завершает эпизод чтения Игнатом письма, и происходит удивительная встреча личности ребенка с отечественной историей и культурой, воссоединение разных эпох. На наших глазах также соединяются в общее целое человек — история — культура, сжимаясь сначала до одной точки, и вдруг внезапно расширяясь до глобального масштаба. В этот момент мы убеждаемся, что мгновения человеческого бытия и события истории находятся в неразрывном единстве, что у них один пульс, одна кровеносная система, одно сердце и одно сознание.
В одном из интервью, данном уже в эмиграции польским журналистам, Андрей Тарковский так определил значение фильма в своем творчестве и судьбе: «Зеркало» доказало мне существование связи между мною, как режиссером, как художником, и народом, ради которого я работал… Для меня очень важна моя связь с классической русской культурой, которая, конечно же, имела и имеет до сих пор продолжение в России. Я был одним из тех, кто пытался, может быть, бессознательно, осуществить эту связь между прошлым России и ее будущим. Для меня отсутствие этой связи было бы просто роковым. Я бы не смог существовать. Потому что художник всегда связывает прошлое с будущим, он не живет мгновением. Он медиум, он как бы проводник прошлого ради будущего».13
Своим фильмом он не только восстанавливал прервавшуюся связь времен, но показывал, что наше прошлое, наша личная и общечеловеческая история создает, сохраняет и толкует нас. Но нас толкует и будущее, и мы начинаем видеть смысл настоящего в потоке времени.
Категория времени является для Тарковского основополагающей в его кинематографе и в теоретическом подходе к кино вообще. Уже в середине 1960-х годов его занимает художественное и философское осмысление этого феномена. В опубликованной статье «Запечатленное время» (1967) он писал, что с изобретением кино человек получил в свои руки матрицу «реального времени». «Итак, кино есть, прежде всего, запечатленное время. Но в какой форме время запечатлевается кинематографом? Я определил бы эту форму как фактическую. Если время в кино предстает в форме факта, то факт дается в форме прямого, непосредственного наблюдения за ним. Главным формообразующим началом кинематографа… является наблюдение».14 Позднее он постоянно возвращается к проблеме времени, отмечая, например, в своем дневнике от 15 февраля 1972 года: «Меня уже много лет мучает уверенность, что самые невероятные открытия ждут человека в сфере Времени. Мы меньше всего знаем о времени».15
Теоретические взгляды режиссера на время и кинематограф нашли свое отражение в книге «Запечатленное время» Тарковского, подготовленной режиссером совместно с О.Е. Сурковой, выдержавшей несколько изданий за рубежом16 и, к сожалению, до сих пор официально неизданной на русском языке. Идея «ваяния из времени» наиболее последовательно представлена в «Зеркале». Тарковский полагал, что образ времени в фильме не может быть простым соединением кадров или, как считал С.М. Эйзенштейн, создается методом «монтажа аттракционов». Волны времени рождаются в результате взаимодействия различного по своему ритму подбора кадров. Известный режиссер Ю.Б. Мамин, слушавший мастера на Высших режиссерских курсах, вспоминал, как Тарковский объяснял некоторые приемы своего искусства. «Его интересовали уникальные состояния: если пожар, то во время дождя; при сильном напряжении действия движения должно быть мало; и, наоборот, если взять высокий темп, то внутреннее напряжение необязательно. То есть темп и ритм должны быть, по возможности, в конфликте друг с другом».17 В «Зеркале» разные пласты времени наплывают друг на друга. История страны, представленная документальной хроникой, и время жизни героя на экране, в том числе его сны, постоянно меняются, тем самым достигается особый пульсирующий ритм фильма.
У Тарковского время относительно и разнообразно, открыто и герметично. Оно дискретно и непрерывно, проистекает сразу в нескольких направлениях и на многих уровнях, во многих измерениях. Время разрывается на разные отрезки и объединено общим духовным пространством человека, способного к жизни одновременно в различных временных измерениях. Ни в одной другой картине режиссера не существует столь напряженных отношений между временем истории, вечностью и временем личностным, временем существования человека.
Годы жизни Андрея Арсеньевича Тарковского (1932-1986) совпали со временем исторических переходов в нашей стране. В момент его рождения лозунг «Время, вперед!» определил характер и стиль сталинской модернизации. В конце жизни противоречивые образы «зрелого социализма», застой, ускорение и перестройка сменяли друг друга в преддверие новой надвигающейся эпохи. На этом историческом фоне существенным и значимым был поворот, который осуществил режиссер в своем творчестве и в своей судьбе. Поворот к духовному возрождению человека, к его высшей сущности, не сводимой к какой-либо идеологической или обывательской формуле.
Особая роль сыграли его картины в пробуждение национального самосознания русского народа в переломное время 1960-80-х годов, на излете советской истории. Фильмы Тарковского восстанавливали исторические традиции в отечественной культуре, осуществляли преемственность и связь в ее развитии. Проблема национально-культурной идентичности личности, над решением которой сегодня работают специалисты самых разных направлений, получила свое художественное выражение в кинематографе нашего великого соотечественника.
Значение работ Тарковского в современной жизни России постоянно возрастает, расширяется пространство их воздействия на многие сферы деятельности, напрямую и не составлявшие предмет профессиональных интересов выдающегося режиссера. В значительной степени это объясняется тем обстоятельством, что Андрей Тарковский сумел коснуться именно тех вопросов, которые и сегодня составляют основное содержание духовных и нравственных поисков человека в условиях углубляющегося кризиса современной цивилизации.
Алексей Лубков,
профессор, доктор исторических наук
Перейти к авторской колонке