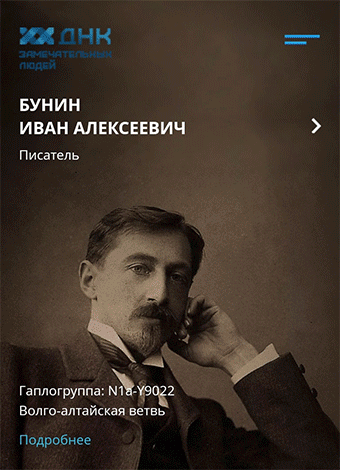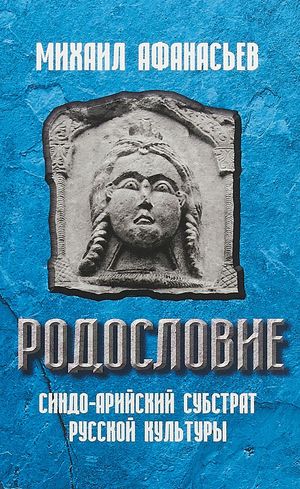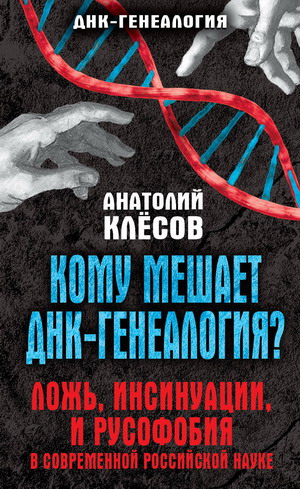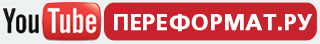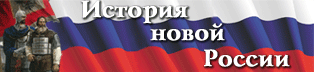Мы сокрыты друг от друга, проявляя свои нравственные и духовные качества, свои мысли и намерения в некоей полупрозрачной сфере человеческой деятельности, именуемой культурой. Культура является тем благоразумно ограждающим покровом, который противостоит хаосу, оберегая человека от разрушительного воздействия сил зла, и вместе воспитывает не только отдельно взятую личность, но и народ.


Всякая эпоха, а значит, и культура этой эпохи, есть цепь сложнейших переплетений тонких и хрупких смыслов, разнообразных натяжений многих духовных нитей, взаимосвязей множества духовных микромиров. Художественный образ очень точно отображает внутреннюю полноту и сложность их взаимосочетаний. В нем отражается как наиболее высокое в человеке – горение его духа к Богу, – так и «тьмы низких истин» и страстей. Мерность образа внутри самого себя и по отношению к среде, окружающей его, говорит о степени мастерства и о высоте духа самого художника, ибо в талантливом художнике всегда таится нечто пророческое.
Творчество художника даже против его воли отражает внутренний мир, нравственные качества, характер его личности, глубину и духовное направление сознания. Всякая мысль, образ мыслей, их совокупность в человеческой личности, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, выражаются в ее произведениях и носят свой собственный отдельный дух, который обнаруживается в поступках и образе жизни этого человека.
Чтоб мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу. Недостаточно воображать добро или иметь о добре правильное понятие: должно вселить его в себя, проникнуться им.1
Исходная позиция Игнатия состоит в убежденности в том, что дух веры человека определяет его жизнь в ее многообразных проявлениях. Разбирая популярную в XIX веке книгу католического монаха Фомы Кемпийского «Подражание Христу», Брянчанинов предложил духовную характеристику культуры западного гуманизма. Западный живописец, или послушный ученик классической традиции западной живописи, основное внимание обращает не на духовную, а на душевную, эмоциональную, страстную сторону предметов и событий. Он изображает человека, нарушившего внутреннюю троичную гармонию ума, духа и воли, утратившего и осквернившего подобие Божие, исказившего в себе образ Бога. Владыка Игнатий объяснял характер европейского искусства тем, что дух веры западного человека заражен ядом ереси.
Столь твердое воззрение святителя на дух церковной культуры может ли означать, что следует совершенно отказаться от пластического языка западной живописи? Отнюдь нет. Трезвый и чистый ум его не мог не видеть духовного ослабления современного ему человека. Понимая соблазн, который привносит в церковь академическая церковная живопись, он понимал и противоположную возможность смущения от уклонения в другую крайность – от бездумного копирования старинной русской иконы. Владыка Игнатий был убежден, что важен не столько пластический язык церковной живописи сам по себе, сколько пронизывающий его дух веры и нравственности художника:
Иконописец должен твердо знать догматы Православной Церкви и вести жизнь глубоко благочестивую.2
Он считал, что церковный живописец может писать святые иконы, пользуясь выразительными средствами классической, академической живописи, поскольку «правильность рисунка необходима для иконы».3 Но даже говоря о светской картине «Поставление Михаила Феодоровича на царство» Брянчанинов подчеркнул, что выражаемое персонажами чувство благоговения и благочестия дает картине единство действия, моральное и религиозное достоинство иконы.
Представляется, что размышления епископа Игнатия Брянчанинова об истоках церковной живописи имеют принципиально важное значение и в наши дни.
После отпадения римо-католичества от Вселенской Церкви в папизм, изменились ее духовные и нравственные ориентиры. Человек стал мерой всех вещей. Человек кощунственно занял место Бога в культуре западного гуманизма, причем человек падший, расстроивший в себе гармонию образа и подобия Божиих. Природа, еще сохраняющая отблески Божественного света, и, главное, человек заняли основное внимание живописца. Расстроенный образ раскалывается на отдельные, не связанные между собой части, взаимная борьба которых приводит к уничтожению цельности образа. Страсти, идеи человеческие материализуются, становятся самодостаточными, самодовлеющими и пытаются заслонить собой зияющую пустоту духовного опустошения человека новейшего времени.
Так, быть может, парадоксально, но естественно вершиной пути живописи высокого ренессанса, поставившей во главу угла величие человека, красоту его образа, становится мертвенное формотворческое искусство современного авангарда, весь смысл которого в разрушительной борьбе с образом Божиим, отраженным в мире и человеке, и замене его новой, чуждой Богу моделью мира. Восстав против гармонии образа и подобия Божиих в себе, противопоставив себя Богу, человек самоубийственно дал ход стремительному процессу самоуничтожения.
Авангардное искусство, немыслимое без борьбы с цельностью образа, в совокупности своих многообразных проявлений являет на редкость цельный и мрачный образ духовной смерти человека, отошедшего от идеала высшей гармонии «милости и истины» и приблизившегося к темному владычеству лжи. Потому это искусство, равно как и породившее его искусство западного гуманизма, является, в конечном счете, искусством богоборческим. Высокий ренессанс, выражая духовную культуру Рима, обожил человека с его неизжитыми страстями, авангардизм же сбросил с пьедестала и самого человека как цельную личность, противопоставив ему абсурд разъединенных борьбой ума, мысли и нравственного духа.
Предлагая мнение великого церковного писателя России о духовной природе культуры, хотелось бы сопоставить его с размышлениями на ту же тему его современника и сверстника, замечательного русского мыслителя Ивана Васильевича Киреевского, прошедшего сложный путь от вершин западной философии до глубины церковного православного мировоззрения. Так же одиноко стоит он в ряду русских литераторов, как епископ Игнатий (Брянчанинов) – в ряду русских богословов. Ивану Васильевичу Киреевскому были свойственны самостоятельность и ясность мышления, чувство большой духовной свободы. Его суждения особенно созвучны слову святителя Игнатия. Интересно, что этих людей связывали близкие отношения со старцем Макарием Оптинским. Для епископа Игнатия старец был другом, для Ивана Васильевича – духовным отцом.
Киреевский блестяще анализирует западную культуру и ее взаимоотношения с культурой Православного Востока. Их основное отличие он видел в том, что восточные подвижники полноту истины ищут через внутреннюю цельность и единство, а западные полагают, что вполне достаточно действия разъединенных сил ума, «чистого, голого разума», того «многовекового холодного анализа», разрушившего основы, на которых стояло европейское просвещение.4 «Отличительный склад римского ума заключался в том именно, что в нем наружная рассудочность брала перевес над внутренней сущностью».5
Рассмотрев истоки примата рационализма в римской церкви, он показал, как она рассудочно использовала во временно выгодных целях не всегда подобающие средства. Так же католическая церковь «действовала… в отношении к наукам, искусствам языческим. Не изнутри себя произвела она новое искусство христианское, но прежнее, рожденное и воспитанное другим духом, другою жизнью, направила к украшению своего храма. Оттого искусство романтическое заиграло новой блестящей жизнью, но окончилось поклонением язычеству». И.В. Киреевский писал:
Западный мир основал красоту свою на обмане воображения, на заведомо ложной мечте или на крайнем напряжении одностороннего чувства, рождающегося из умышленного раздвоения ума. Ибо западный мир не сознавал, что мечтательность есть сердечная ложь и что внутренняя цельность бытия необходима не только для истины разума, но и для полноты изящного наслаждения.6
Науки, как наследие языческое, процветали так сильно в Европе, но окончились безбожием как необходимым следствием своего одностороннего развития.7
Грустно видеть, каким лукавым, но неизбежным и праведно насланным безумием страдает теперь человек на Западе. Чувствуя тьму свою, он, как ночная бабочка, летит на огонь, считая его солнцем. Он кричит лягушкой и лает собакой, когда слышит Слово Божие.8
Отчетливо понимая изъяны западной культуры, Киреевский тем не менее не предлагал отмести ее наследие как нечто неприемлемое и словно несуществовавшее, поскольку был убежден, что невозможно вытравить из народного сознания то, что оно впитало в себя в течение нескольких веков и поколений. Он считал:
Если старое было лучше теперешнего, из этого еще не следует, чтобы оно было лучше теперь. Что годилось в одно время, при одних обстоятельствах, может не годиться в другое, при других обстоятельствах.9
При всей любви к древнерусским традициям Иван Васильевич понимал, что свое чувство дóлжно подчинить рассуждению. Культура народа подобна древу. Она растет органично вместе с ним, усваивая – в свою меру – привитые инородные побеги. Даже из самых лучших побуждений пытаясь повернуть вспять исторический ход, можно серьезно и даже неисцелимо повредить живой исторический организм.
Желать ли нам возвратить прошедшее России и можно ли возвратить его? Если правда, что самая особенность русского быта заключалась в его живом исхождении из чистого христианства и что форма этого быта упала вместе с ослаблением духа, то теперь эта мертвая форма не имела бы решительно никакой важности. Возвращать ее насильственно было бы смешно, когда бы не было вредно.10
Иван Васильевич говорил, что если бы когда-нибудь во сне ему привиделось, что какая-либо из давным-давно ушедших форм русской жизни возродилась бы и в прежнем своем виде вмешалась в современную жизнь, его это не только не обрадовало бы, но испугало бы.11
Единодушны, единомысленны оба русских мыслителя, имеющие единую опору в православной вере, в светоносном учении святых отцов. Их ясная, прозрачно-чистая мысль послужит и для нас четким ориентиром в обступающей тьме соблазнительных и благочестивых по видимости идей, направлений и возможностей.
Не для всех возможны, не для всех необходимы занятия богословские… Но для всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни со своим коренным убеждением веры, согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтоб всякое действие было выражением одного стремления, каждая мысль искала одного основания, каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машиной, сердце – собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер; никакое действие не будет иметь нравственного характера, и человека, собственно, не будет. Ибо человек – это его вера.12
Так писал Иван Васильевич Киреевский.
Уверовать в Бога и во Евангелие могут все; деятельную веру стяжают подвижники Христовы; живая вера есть дар Божий, достояние одних святых Божиих… Сущность дела – в вере. Она приближает человека к Богу и усвояет человека Богу… Отсутствие ощущения благодатных даров производится слабостию нашею в вере; скажу откровеннее: отвержением ее.13
Так заключает святитель Игнатий Брянчанинов.
Галина Чинякова, писатель
Перейти к авторской колонке