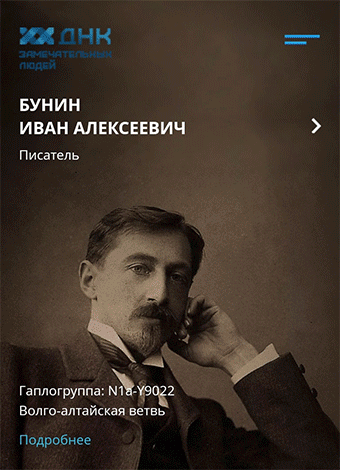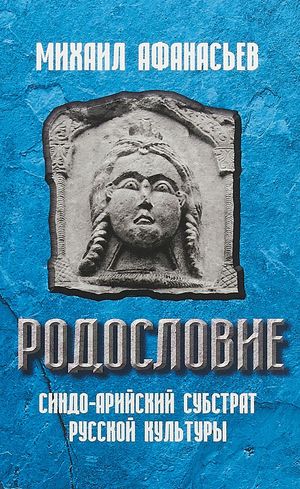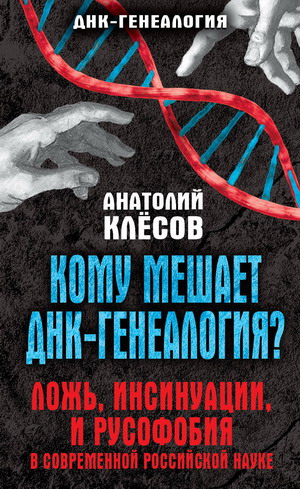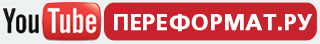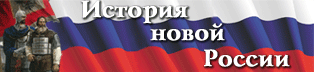Все крупные революции, заканчивающиеся гражданскими войнами, сопровождаются переходом на сторону контрреволюционного лагеря самых широких социальных масс. Собственно говоря, без участия этих масс в контрреволюции не может быть и гражданской войны как таковой. В этом случае для нее не было бы социальной почвы, а происходило бы просто отстранение от власти и ведущих позиций в экономической жизни старой элиты, составляющей несколько процентов населения общества, неспособных к сопротивлению всей нации.

Невнимание к этой стороне революционного процесса в философии и истории советского периода объяснялось романтизацией революции, а также роли народных масс в истории. В ней доминировало представление о том, что народные массы революционны уже по своей природе. Многочисленные факты участия народа в контрреволюционных движениях замалчивались, объяснялись «отсталостью» или «обманом» контрреволюционеров. На народные контрреволюционные движения навешивались всякого рода ярлыки: крестьянские восстания объявлялись кулацкими, национальные движения – реакционными и т.п. Естественно, обман и всякого рода иллюзии играют большую роль в ходе революций. Обманывают, используя всякого рода наивные представления народа, обычно и революционеры, и контрреволюционеры. Причем первые, как правило, с большим масштабом и успехом.
Однако объяснять только этим фактором движения широких социальных слоев, по меньшей мере, нелепо. Особенно странно, что подобные взгляды утвердились в направлении, которое считало себя единственно подлинным носителем материалистических взглядов на историю. Если гражданские войны – это, по выражению Ленина, действительно войны «угнетенного класса против угнетающего, рабов против рабовладельцев, крепостных крестьян против помещиков, наемных рабочих против буржуазии», то как объяснить, что революционный террор обрушивается, прежде всего, на представителей тех самых угнетенных классов, от имени которых выступают революционеры? Так, из 40 тысяч казненных на гильотине, в период Французской революции, дворяне и священники составили соответственно 8,5% и 6,5%, а остальные 85% – третье сословие, причем 60% являлись крестьянами, рабочими и ремесленниками. Но 40 тысяч гильотинированных – это только малая часть жертв революции – те, кто дожил до суда. Сотни тысяч крестьян были убиты без соблюдения подобных формальностей. В частности, потери в Вандейском восстании определялись в литературе от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Население четырёх департаментов на реке Луаре сократилось наполовину.1
Участие масс в контрреволюционных движениях также закономерно, как и их предшествующая революционная борьба. В крупных революционных переворотах участвуют прямо или опосредовано фактически все слои общества. Отстраняются от власти непопулярные правители, отжившая свой век старая элита. Уничтожаются старые, давно подвергающиеся насмешкам порядки, условности политической и социальной системы общества. Эти первые изменения приветствуются всем обществом, так как необходимость их была давно осознана. В этот период все общество охвачено радостью перемен, надеждами на будущее. Считается, что теперь, «при свете разума» легко будут разрешены все проблемы государственного и национального бытия. Однако уже в этих первых реформах зреют будущие конфликты.
Новая революционная власть вскоре обнаруживает свою неспособность управлять обществом. Все старые проблемы остаются и к ним прибавляются новые. Место чиновников-профессионалов занимают дилетанты, очень быстро обнаруживающие свою непригодность. Революции вызываются обычно острым общественным кризисом, но они никогда не могут его разрешить. Предпринятые новой элитой антикризисные меры в обстановке общественной активности, как правило, только углубляют его и переводят в новое качество – глубокий системный кризис, в котором на первое место ставится не вопрос как жить обществу, а проблема может ли оно теперь жить вообще. Предшествующий кризис, вызвавший революцию, кажется теперь мелочью, по сравнению с его последствиями. Так, финансовый кризис 1780-х гг. во Франции, вызвавший созыв Генеральных Штатов, перерос в результате мер, сменяющих друг друга, революционных правительств в финансовую и экономическую катастрофу 1790-х гг. Так, выход России из Первой мировой войны за полгода до ее окончания привел к гражданской войне, потери населения в которой были почти в 10 раз больше, чем в предыдущем конфликте.
Значительная часть общества удовлетворяет свои интересы на первом этапе и не хочет дальнейшего развития революции. Политические группы, боровшиеся за власть, теперь ее получают. Классы удовлетворяют свои материальные интересы. В то же время часть политических групп еще не получили все, за что они боролись. Таким образом, происходит раскол между бывшими союзниками по первому этапу революции. Одни хотят остановить революцию на начальном этапе, вторые требуют ее углубления. Если умеренным не удается остановить крайних, то революция радикализируется. В этот второй период характер революции меняется. Если на первом этапе роль революция играет все-таки в большей степени общенациональную роль, несмотря на отпечаток тех классов, которые ее ведут, то на втором этапе она постепенно утрачивает свою общенациональную значимость и приобретает все более ярко выраженный партийный и классовый характер. Первые послереволюционные правительства пытаются спасти хрупкое единство общества, достигнуть компромисса между всеми его слоями. Радикалы второго этапа революции готовы на проведение политики, выгодной конкретным классам, на чью поддержку они рассчитывают, за счет интересов всего общества. Первой жертвой революции становится старая элита, отстраненная от власти в самом ее начале. Теперь она уничтожается политически, экономически, а часто и физически.
Необходимой предпосылкой для европейских революций эпохи нового времени был кризис традиционных элит. Старая знать постепенно впитывает новые ценности города, захватывается ими, не замечая этот процесс. Новые ценности угрожают концом старого мира, несовместимы с положением, а значит и жизнью старой аристократии, но очарование их велико и старая знать сама растит то, что позднее погубит ее. Начало этого пути – аристократия оставляет поместья и собирается в городах. Обрываются узы, связывающие знать с традицией, землей и населением ее владений. Аристократия добровольно или под нажимом верховной власти теряет свое место на земле, занимая место тонкого верхнего слоя городов, где под ее покровительством расцветает культура. В моду входят утонченность, чувствительность, скептицизм и игра. В этой культуре уже заметны признаки заката и грядущего упадка. Традиционная картина мира не выдерживает напора новых взглядов, формируемых городом, разрушается у знати быстрее, чем на низах общества. Место ценностей старого порядка постепенно занимают скепсис и безверие. Политическая элита раскалывается на борющиеся между собой кланы, программа каждого из которых воспроизводит ценности города в той или другой степени. Во время кризиса они не встанут возле трона, во имя старого порядка. Напротив, они сами хотят перемен. У некоторых кланов есть свои кандидатуры на корону. Они истощают старую знать в борьбе и невольно открывают дверь, через которую в политику входят новые люди.
Развитие революции приводит в первую очередь к поправению элиты. Аристократия испытывает внезапно ностальгию по старому порядку, тоску по старым ценностям, еще недавно осмеиваемым ее интеллектуальными вождями. Не либеральные идеи, а религия и король добрых старых времен становятся знаменем аристократии эпохи гражданских войн. Под ним аристократия устраивает заговоры и поднимает на восстание другие слои населения, если это еще возможно. По словам Бердяева, только религия могла соединить простонародье и аристократию – «культура народного слоя была почти исключительно религиозной, и в ней происходило соединение народного слоя с аристократическим культурным слоем».2 Наиболее ярко эта роль аристократии была сыграна ею в эпоху французской революции.
В Англии, в связи с особенностями характера революции, революционная сторона преследовала ограниченные цели и часть знати сотрудничала с ней до самого 1648 г. (суда над Карлом I). В России аристократия не была способна к серьезному сопротивлению. Она уже полностью утратила влияние в деревне и к началу века воспринималась вместе с монархией как анахронизм. Философы XX века уже не оставляли место в картине мира «философу на троне» и земельной знати. Кроме того, в эпоху «нового периода русской истории», как называл эпоху XVII-XIX вв. В.О. Ключевский, в России уже не было аристократии в европейском смысле слова. После крушения политического могущества боярства во время опричнины и Смуты, знать здесь не являлась слоем, крепко сидящим на земле, в глазах которого король был не более чем «первым из равных», а была только собранием «служилых людей» государя, распоряжавшегося ими как ему заблагорассудится. Только в XVIII в., когда европейская знать постепенно утрачивает свою роль в обществе, русское дворянство впервые смогло оказывать серьезное влияние на политику государства.3 Однако уже в XIX в. последние Романовы постепенно отстраняют знать от руководства государственной жизнью, вновь возвращая ей значение передаточного механизма в сложной системе управления империи. Характерно, что монархизм – традиционная идеология знати в гражданской войне не стал знаменем белых. О традиционализме как таковом не приходилось говорить в стране, где модернизация до 1917 г. проводилась монархами, и где преобразования были столь радикальны, что уже мало кто (включая славянофилов) мог понять, что же все-таки представляет собой та исходная почва, откуда двести лет назад империя начала свой стремительный бросок в неизвестность.
Если переход в контрреволюционный лагерь аристократии закономерен и понятен, то как объяснить поправение крестьянства? По словам Троцкого в европейских революциях XVIII-XIX вв. буржуазия «освобождала крестьянство» и оно «раскрепощенное… теряло всякий интерес к политическим затеям «горожан», то есть к дальнейшему ходу революции, и, ложась неподвижным пластом в основу «порядка», выдавало революцию с головой цезаристской или исконно абсолютистской реакции». Троцкий обещал, что в грядущей русской революции пролетариат заберет у буржуазии революционную гегемонию и станет «классом-освободителем» крестьянства, которое будет заинтересовано в поддержке пролетарского режима «не меньше чем французское крестьянство было заинтересовано в поддержании военного режима Наполеона Бонапарта».4 В действительности, как известно, русская революция привела к самой грандиозной из крестьянских контрреволюционных войн 1918-1921, на которую приходится основная доля из примерно 15 млн. потерь гражданской войны.
Почему на революционное «освобождение» крестьянство отвечает восстаниями и поддержкой реакции? В данном случае необходимо понять, что представляло собой это «освобождение». В литературе (Токвиль, Шпенглер) отмечалось большее благополучие предреволюционного французского крестьянства, по сравнению с крестьянством других европейских стран (например, в Англии, где свободное крестьянство было оставлено без земли, или в Германии, где оно все еще находилось в личной зависимости от помещиков). И французское, и русское крестьянство предреволюционного времени имело личную свободу. Вопреки распространенному мнению революция не могла дать крестьянству и землю. К 1789 году 75% земли Франции находилось в руках третьего сословия, в 1916 г. – 90% пахотной земли Европейской России владели крестьянские хозяйства.5 Но это совсем не означает, что крестьянство этих стран было довольно существующим устройством. Оно несло основное налоговое бремя, а во Франции было опутано многочисленными обременительными повинностями феодального характера. Крестьянские выступления лета 1789 г. во Франции и 1902-1917 гг. в России нанесли решающий удар по политической системе неограниченных монархий. Однако последующие крестьянские движения были направлены уже против революционных правительств. Крестьянская контрреволюция ассоциируется обычно с Вандеей и Тамбовским восстанием. В реальности это были лишь эпизоды великой крестьянской войны.
Не являются ли крестьянские восстания наиболее значительным проявлением сопротивления традиционного общества новому укладу, «модерну»? Шпенглер, а за ним Ортега-и-Гассет говорили об инаковости города по отношению к окружающему его миру, что в конце концов ведет каждую из цивилизаций к противостоянию между городом и деревней, в которой «деревне приходится вести безнадежную борьбу… в духовном отношении против рационализма, в политическом – против демократии, в экономическом – против денег».6 На мой взгляд, тенденция отношения «город – деревня», как отношения борьбы и противостояния, хотя и присуща всем цивилизованным обществам, однако, в большинстве случаев она так и остается в качестве тенденции. В большинстве обществ чувствуется напряжение в их взаимодействии, но это взаимодействие не перерастает в ту яростную борьбу, о которой писал Шпенглер. Подобная борьба была присуща только европейскому обществу Нового времени и имеет один слабый аналог в истории – античный мир, город которого и породил европейский. Однако и европейский город становится разрушителем окружающего мира не с момента появления, а в период глубокой трансформации, в ходе которой он разрушает традиционное общество средневековья. Европейский город, как он складывается к XVI-XVIII вв., становится оплотом рационализма, модерна, местом, где разрушаются традиции. Новый город с момента своей трансформации изменяет мир окружения. Это происходит потому, что новый городской уклад несовместим с окружающим его миром. Поэтому город должен меняться сам или изменить этот мир. Город – это самая активная сила средневекового общества и поэтому именно он меняет мир.
Новый город противоречив, в нем борются друг с другом взаимоисключающие тенденции. Его идеологи и политики несут окружающему миру проповедь свободы от «старого порядка» и образ «грядущего мира». Но, этот образ грядущего является самым противоречивым из того, что есть у «нового города». Он соединяет в себе тотальную свободу индивида по отношению к обществу и тотальную свободу общества по отношению к индивиду. Причем обе эти крайние тенденции первоначально не столько противостоят друг другу, сколько дополняют одна другую. Это верно как для идеологических систем (Руссо, Маркс), в которых «новый город» пытается понять себя и вписать в свою систему координат окружающий мир, так и для действий «нового города» по отношению к этому миру. В моменты кризиса, когда «новый город» стоит перед угрозой уничтожения (неважно мнимой или реальной), права личности незаметно становятся как бы временно несуществующими, отсроченными. Они декларируются, но не осуществляются. Индивид «старого порядка» точно знал, тот уровень прав, на которые он мог претендовать, исходя из сословной принадлежности. Право «нового города» ставит человека в крайне двусмысленное и противоречивое положение. Права личности даже не отступают, а просто исчезают перед лицом концентрации ресурсов общества «новым городом» в случае опасности. Теперь имеет место только одна тенденция – подчинения интересам общества, как их понимает элита, находящаяся у власти.
Французская революция периода ее вооруженной борьбы с монархиями Европы стала первой эпохой «тотальной мобилизации» в истории европейского общества. «Первый раз в истории нового времени все ресурсы воюющей нации, люди, съестные припасы, товары – находились в распоряжении правительства. Республика, по выражению Барера, была одним большим осажденным городом, обширным лагерем». В 1793 г. Конвет объявил всех французов без различия пола и возраста состоящими «на постоянной военной службе».7 Ответом населения стали восстания под лозунгами «Мира! Мира! Хватит стрельбы», охватившие в 1793 г. более ⅔ территории Франции. Чтобы понять эту реакцию французского общества, надо вспомнить, что в средневековой Европе войны велись армиями в несколько тысяч человек, а сражение считалось кровопролитным, если потери в нем превышали несколько десятков рыцарей. В эпоху централизованных монархий армии и потери возрастали, но война, за несколькими исключениями, которые предвосхищали свою эпоху (ряд эпизодов Столетней войны, Тридцатилетняя война), по-прежнему носила ограниченный характер «спорта королей». Когда войны королей сменились противостоянием наций и идеологических систем, войны окончательно приобрели тотальный и разрушительный характер, отличавший революционные войны 1792-1815 гг. (по словам Исдейла «революционеры-генералы, а затем Наполеон первыми применили стратегию уничтожения»), Первая и Вторая мировые войны.8
Наиболее трагична смена «старого порядка» новым в деревне. Как и все традиционные общества европейский «старый порядок» построен на частичном отчуждении, главным образом, крестьянского труда. «Новый город» освобождает крестьянство от отчуждения «старого порядка», однако, имеет тенденцию к тотальному отчуждению. Эта тенденция отчетлива видна и в период мира. Город нового времени видит в земле прежде всего товар, тогда как для крестьянина традиционного общества земля является наиболее близкой к нему частью космоса. Цель города – сделать свое представление реальностью и уравнять землю с рядом других товаров, которые можно купить и продать, в который можно вкладывать деньги и получать ренту. Таким образом, крестьянин должен стать не собственником земли, а агентом города по ее обработке. В период перехода власти от старой элиты к элите «нового города», последующих военных конфликтов тотальное отчуждение предстает в своей открытой форме. «Новый город» явно показывает крестьянскому миру, что он является собственником его урожая, имущества и жизни (непосредственными причинами крестьянских восстаний и Французской, и Русской революций было проведение реквизиций хлеба для города и набор в армию). Когда крестьянин за словами об освобождении видит контуры того порядка, который несет ему «новый город», то он восстает против революции в защиту «старого порядка» со всеми его давними несправедливостями. По данным Хосбаума, за исключением восстания лета 1789 г. во Франции, все остальные европейские «значительные крестьянские движения в этот период (до середины XIX в.), которые не были направлены против иностранного короля или церкви, проводились за церковь и короля».9 Традиционные ценности «старого порядка» стали знаменем выступлений крестьян и городских низов Италии, Испании, Германии, России и Англии во время революционных войн.

Антиреволюционные выступления крестьянства имеют тенденцию перерастать в движение, направленное против города в целом. В период Английской революции таковым являлось движение клабменов, которое пыталось вывести деревню из гражданской войны путем организации вооруженных отрядов, предотвращавших реквизиции.10 Однако в Англии самостоятельное крестьянское движение не получило такого размаха, как в последующих революциях на континенте. Во Французской и Русской революциях крестьянские отряды уже не ограничивались самообороной и захватывали города, которые грабили и облагали контрибуцией. «Города экономически разорены и потеряли свое былое значение… деревня фактически никем не покорена – она никого не признает», гласил типичный образец крестьянского самосознания – декларация крестьян Черноморской губернии.11
В гражданских войнах нового времени общенациональные крестьянские выступления иногда предваряются восстаниями отдельных районов. Под влиянием «нового города» разрушаются ценности и традиции старого порядка во всем обществе. Однако этот процесс происходит не сразу, он проходит неравномерно на территории каждого из государств. Где-то, прежде всего в районах, прилегающих к столицам, крупнейшим торговым центрам и границам, «прогресс» – новый миропорядок наступает быстрее. В отдаленных провинциях, далеких от больших городов и торговых путей его приход задерживается. Эти «отсталые», «патриархальные», каковыми их считает город, провинции и выступают первыми под контрреволюционными лозунгами. Они менее затронуты новыми экономическими отношениями, их культура, образ мира еще не деформированы городским влиянием. Они не принимают нового мира, где главную роль играют рацио и деньги, и потому должны измениться или исчезнуть.
В Английской и Французской революциях такую роль играли «отсталые» провинции запада – Уэльс и Бретань, горная Шотландия, Ирландия, и район нижнего течения р. Луары, в швейцарской гражданской войне 1847 г. – католические «лесные» кантоны, в революциях 1848 г. – славяне Германии и Венгрии, которые, по выражению Энгельса, «неизменно (за исключением демократической части поляков) оказывались на стороне деспотизма и реакции».12 Как правило, слабая связь с экономикой «нового города» углубляется здесь этнической или религиозной оторванностью от основного населению страны. Интересно, что почти все роялистские районы Английской и Французской революций – Уэльс, горная Шотландия, Ирландия, Бретань – это последние острова кельтской культуры в Европе.13 Еще одним отличием этих островов «старого порядка» является роль знати, продолжающая оставаться значительной. Токвиль приводит письмо интенданта провинции Анжу (будущей Вандеи), сожалеющего, что «дворяне его провинции любят жить в деревне со своими крестьянами вместо того, чтобы исполнить свой долг подле короля» и замечает, что именно эти дворяне затем и стали единственными «вставшими с оружием в руках за монархию во Франции, чтобы умереть сражаясь за нее».14
«Отсталость», оторванность этих провинций от основной массы крестьянского населения не должна вводить нас в заблуждение. На самом деле они самым тесным образом связаны с остальными группами крестьянства. Выступление патриархального крестьянства в качестве вооруженной оппозиции революционным силам является знаком того, что от революции отходят основные группы населения страны. Так, по словам Матьеза, Вандейское восстание в марте 1793 г. «было только страшным отголоском и наиболее ярким проявлением возмущения и недовольства широких масс населения во всей Франции».15 Через три месяца, в июне 1793 г. восстание против революционного Парижа охватило 60 из 83 департаментов Франции.
Контрреволюционные выступления внутри самого «нового города» порождаются следующими причинами. Европейский город античности и средневековья, как только ему удается освободиться от внешней, по отношению к городскому миру, власти, является ареной постоянной и ожесточенной классовой борьбы. Власть античных царей и средневековых сеньоров была направлена на соблюдение известного баланса сил в городе, не давая одной группе чрезмерно усилиться за счет другой. «Царь должен наблюдать за тем, чтобы владеющие собственностью не терпели никаких обид, а народ ни в чем не терпел оскорблений» – таков политический идеал античности в трактовке Аристотеля.16 После обретения городом самостоятельности начинается борьба патрициата, бюргерства и низов.17 Однако до исхода средневековья классовая борьба в городах имела последствия, прежде всего, для населения самого города и ближайшей округи. В эпоху нового времени результаты этой борьбы имеют решающее значение для всего общества.
Средние слои, как правило, выражают либеральные ценности «нового города». Низы, особенно в период потрясений и обнищания, проявляя мало интереса к политическому устройству, требуют от революционного правительства принятия таких социально-экономических мер (твердые цены, принудительное изъятие продуктов у крестьянского населения), какие несовместимы с политическими свободами, либерализмом. Городские низы хотят, чтобы за революционные перемены заплатили другие слои населения – аристократия, крестьянство, средние слои. Несмотря на численный рост низов, который обеспечивает растущая экономика «нового города», опасность для города меньше, чем кажется на первый взгляд. Городские низы способны на восстания, стихийные акции протеста, но, как правило, не могут взять и тем более удержать власть в городе самостоятельно.
Однако в ходе революций нового времени у городских низов появился неожиданный союзник – радикальные политические группы из средних слоев города. Во Франции это были якобинцы, в России – большевики. Радикалам поддержка этой относительно немногочисленной, но мобильной группы населения предоставляла возможность захвата власти над «новым городом». В централизованных государствах власть над городом означает и власть над страной в целом. Восстания деревни, выступления провинций могут быть легко подавлены из крупнейших городских центров. Городские низы в период революций являются наиболее последовательным союзником радикалов. Глубокие социальные перемены открывают наиболее значительные возможности именно перед этим слоем, откуда вербовалась наиболее преданная революции часть бюрократии и офицерского корпуса во Франции и в России. Радикалы по мере разрушения традиционных политических и социальных структур «старого порядка» постепенно наталкиваются на нарастающее сопротивление всех слоев общества. Ведь классы участвуют в революции ради изменений в своем положении, а не ради трансформации в нечто иное. Союз с низами необходим радикальным группам, когда их социальная база – средние городские классы, переходит к ним в оппозицию. Причиной подобного является слишком резкий разрыв с традицией в политических и социальных планах радикалов. Разрыв, продиктованный не задачами времени, а идеологией, которой руководствуются радикальные группы (антимонархизм крайнего протестантизма времен Английской, антимонархизм и антиклерикализм Французской, антиклерикализм и «научный коммунизм» Русской революций).
Подобные проекты не принимаются и вызывают сопротивление практически во всех социальных слоях. В качестве оправдания насилию революционеров над обществом во имя идеологических проектов, в советской литературе обычно говорилось о «забегании вперед» и т. п. Подобные утверждения возможны при наличии наивной веры в то, что это будущее уже как бы имеется в наличии, и кто-то знает, что в нем содержится и знает, как его приблизить. Однако радикальный разрыв с традицией еще не означает пути в будущее, скорее, это дорога в никуда. Средние слои выступают против радикальных революционных групп и в Английской (пресвитериане 1648 г.), и во Французской (жирондисты 1793 г.) революциях. Неудача революций 1848 г. в Европе была во многом вызвана позицией средних слоев, которые сразу ощутили свою враждебность не только «феодализму и абсолютизму», но также и «пролетариату и всем слоям городского населения, интересы и идеи были родственны пролетариату».18 Быстрая радикализация событий 1848 г. и память о терроре 1793-1794 гг. заставили средние классы пойти на компромисс с монархами и знатью. В двух наиболее значительных в Европе XX века гражданских войнах – в России и Испании – средние слои выступили уже как основной социальный слой контрреволюции. Так, по словам Ридруэхо, выступление франкистов в 1936 г., «несмотря на четкое выполнение плана заговорщиков и решительные действия втянутых в заговор военных частей, потерпело неудачу везде, где численность традиционного среднего класса была меньше, нежели численность рабочего класса и либеральной интеллигенции… Но там, где рабочие и интеллигенция были в меньшинстве, а средние классы преобладали военные сразу же стали контролировать положение».19
Городские низы представляют собой наиболее текучий в социальном смысле элемент старого общества, наиболее благоприятный для проведения глубоких изменений. Конечно, и его поддержка революции не безгранична. Переход этого слоя на сторону контрреволюции вызывается обычно неспособностью радикалов обеспечить поддержание привычного жизненного уровня города, когда, по выражению Троцкого, «руководящая революционная партия не способна выполнить то, что намеревалась сделать и то, что обещала массам».20 «Мы просим хлеба, а вы думаете накормить нас казнями» – писали рабочие Парижа в Конвент. Первыми выступают против революции городские низы провинциальных центров (участие рабочих в антиякобинском восстании Лиона в 1793 г., антибольшевистские выступления рабочих Ижевска, Воткинска, части заводов Урала, Астрахани в 1918 г.). Спустя некоторое время антиреволюционные настроения охватывают рабочих Парижа, Петербурга, Москвы.21
Какие следствия несет в себе поправение общества для судьбы революции? В случае политического, «парламентского» этапа революции возможен под давлением общества возврат полноты власти старым политическим структурам, если они еще не уничтожены или передача обществом власти политическим деятелям, партиям, которые знаменуют собой конец революции. Таков был итог 1848 г. в Германии и Франции, а также 1871 г. во Франции, где крестьянство и средние классы города не дали радикальным партиям и городским низам продолжить революционный процесс.
В случае открытой борьбы при условии силы и стабильности контрреволюционного лагеря, способности его лидеров обеспечить антиреволюционный союз разнородных сил, подобное поправение постепенно усиливает силы контрреволюции и дает им необходимый перевес в вооруженной борьбе. Подобное явление имело место в испанской гражданской войне 1936-1939 гг.
Когда старые структуры уже разрушены и революция уже привела к гражданской войне, переходу власти к радикалам, поправение вовлекает общество в конфликт с революционной властью. Тогда временные чрезвычайные меры перерастают в диктатуру радикалов и террор. Террор и диктатура в революции являются показателем, что большинство общества отходит от революционной власти. Революционная власть прибегает к ним от отчаяния, когда она теряет свою популярность, ее лозунги бессильны, ее меры не способны обеспечить поддержку общества. Однако и террор не в силах вновь объединить общество и новую власть. В Английской и Французской революциях конфликт «поправевшего» общества и революционной власти разрешился «поправением» самих революционеров. Новые тенденции в социально-экономической политике сочетались или предшествовали смене первого ряда лиц революционных партий.
На смену радикалам приходят более умеренные политики. Однако даже они уже не удовлетворяют контрреволюционно настроенное общество. Так, вопреки распространенному мнению, сам по себе термидор 1794 года не являлся контрреволюционным выступлением. Главную роль в заговоре играли «люди Горы» – монтаньяры, многие из которых были сторонниками куда более радикальной политики, чем Робеспьер. Они хотели продолжить революцию, только без диктатуры Робеспьера и вышедшего в 1794 г. из под контроля революционеров террора. Но они не могли понять, что революция, которая в 1789 г. опиралась на поддержку буквально всех слоев французского общества, в 1794 г. могла быть только при помощи диктатуры и террора. Конец Робеспьера и конец террора стали концом революции во Франции. Оказалось, что в 1794 г. только террор мог защитить революцию от общества. Поправение города привело к режиму Директории, а поправение деревни к империи Бонапарта, основателя «династии крестьян», по выражению Маркса.22 Аналогичную роль играла в Англии диктатура Кромвеля, «заморозившая» революцию на 12 лет (1648-1660). Смерть Кромвеля в 1658 г. дала возможность английскому обществу осуществить то, что оно хотело сделать еще в 1648 г. – реставрацию королевской власти, которая теперь была проведена вождями революционной армии. Результатом этого «поправения» общества и власти стал феномен реставрации – возвращение к власти изгнанных династий на условиях ограничения этой власти.
Однако не все революции завершаются реставрациями. То, что произошло в странах Европы, где общественные структуры имели значительную степень независимости по отношению к государству, не стало законом для развития революций в Азии и Восточной Европе. Еще в период гражданской войны большевистское руководство всерьез обсуждало вопросы, подобные тому, что был задан Дзержинским Рафаилу Абрамовичу: «можно ли преодолеть социально-экономическую отсталость путем полной ликвидации некоторых социальных слоев»?23 Ослабление давления на традиционные экономические отношения, введение НЭПа не стало началом конца политической диктатуры большевиков и террора, а наоборот, вызвало настоящую эпидемию страха в партии – не есть ли эта уступка первый этап термидора. Не начнется ли «процесс неизбежного перерождения Советской власти.., а на деле Коммунистическая партия окажется на службе у крестьянского капитализма» (из письма Варейкиса Ленину)? Характерно, что и среди белой эмиграции начало НЭПа вызвало надежды на «естественный ход событий и крушение коммунизма»24, орудием реставрации могла выступить крестьянская по составу Красная Армия.
Как известно, НЭП оказался только «передышкой», после которой последовал второй этап натиска на традиционные структуры российского общества. В литературе обычно при анализе причин свертывания НЭПа указываются экономическая составляющая этого процесса. Но не есть ли здесь, прежде всего, реакция на конфликт между обществом и партией большевиков, которая хотела строить «новый мир»? «Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения, в громадном большинстве относится отрицательно и даже враждебно»25 – это представление эмигрантов о России 1920-х гг. долгое время отвергалось советской историографией, однако, оно получило неожиданное подтверждение в секретных сводках ЧК, предназначенных для информации верхушки партии о настроениях на местах и переписке ее вождей. Записка Подвойского, Мехоношина, Муралова, Кедрова, Менжинского и Ягоды в ЦК РКП(б) от 13 февраля 1921 г. сообщает:
Крестьянские восстания… несомненно являются только началом широкого мелкобуржуазного движения против пролетариата… Между тем пролетарские массы в главнейших центрах (Москва, Петроград и др.) в данный момент в таком состоянии, что без осуществления со стороны партии самого действительного и революционного влияния на них они не только не способны противопоставить свою организованность выходящему из-под влияния пролетарского государства крестьянству, но и сами при дальнейшем ухудшении экономического положения неизбежно выйдут из-под влияния Р.К.П. и даже могут под влиянием антисоветских партий выступить против Советской власти… Красная Армия не может быть надежным оплотом Советской власти.26
В ходе второго этапа натиска на мир «старого порядка», который начался около 1929 г. и окончился примерно к 1939 г. (когда верхи партии приостановили «большой террор» и провели частичную реабилитацию) были разрушены базовые традиционные структуры российского общества. Итогом такой своеобразной «социальной хирургии» стал тот факт, что впервые в новое время революционная власть смогла уничтожить «старый порядок» столь радикально, разрушить все его основные структуры, которые могли бы конкурировать с ней и предотвратить открытую контрреволюцию. Революции в Азии (особенно в Кампучии) явили еще более тотальный характер уничтожения старого мира в попытке построить новое общество.
Итак, закон термидора – смены политических групп в период кризиса революции под давлением общества у власти слева направо, подобно тому, как они на первом этапе революции сменяются справа налево, не есть закон для Востока. Революционная власть может здесь, в силу исторического соотношения власти и общества, подавить сопротивление всех социальных групп, выступивших против нее. Однако эта победа новой власти над обществом вскоре обнаруживает свой истинный характер пирровой победы. Ведь «социальный порядок не случаен, он есть продукт многовекового приспособления человечества к среде обитания и индивидов друг к другу».27 Радикальные планы преобразования общества и человека путем насилия терпят неудачу, «старый порядок» уже разрушен, а новый не создан и задачи синтеза того реально нового и жизненного, что несет после себя революция и тех элементов старого мира, без которых общество не может существовать, синтеза, который в Европе проходит в период термидора и реставрации, приходится в конце концов брать на себя самим революционным группам.
Впрочем, послереволюционное общество – это всегда некий компромисс, синтез «старого порядка» и революции. Вопрос состоит в том, в какой именно точке соприкосновения будет достигнут этот синтез? Насколько политически, социально и экономически будет разрушен «старый порядок» и станут жизненными новые структуры общества? А также может ли сила традиции залечить последствия социальной катастрофы революции? Будет ли общество продолжать жить с учетом совершившихся перемен или ему суждено через какое-то время исчезнуть, не выдержав их груза?
Владимир Пузанов,
доктор исторических наук
Перейти к авторской колонке