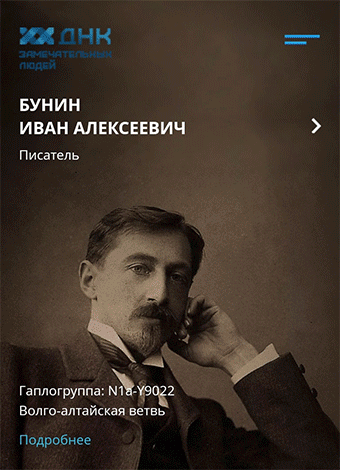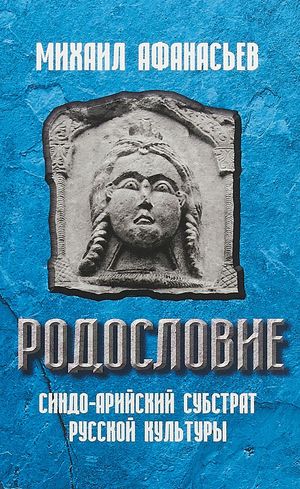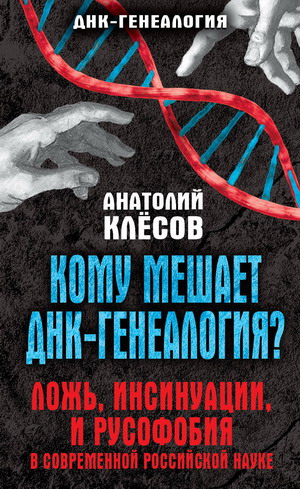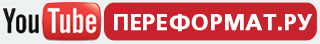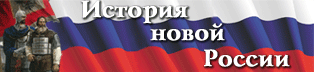Мы живём в стране беспрецедентных крайностей, стране, где расстояние между минусом и плюсом, равное целой Галактике, порой оказывается преодолено за пару секунд, достаточных для того, чтобы произнести короткую фразу. Можно как угодно относиться к этому факту, но отменить его мы вряд ли в состоянии. Один из ярких примеров марш-броска от любви до ненависти по кратчайшему маршруту – отношение к гражданской войне, о котором я как-то писал в одной из предыдущих заметок.

В последние двадцать лет тотального поругания и осуждения роли и места «красных» в событиях 1918-1922 годов сложилось мнение, что это, мол, лишь адекватная ответная реакция на советскую практику восхваления исключительно большевиков и позиционирования «белых» как абсолютного зла. Посыл вроде верный, но до известных пределов. Нравственный нигилизм и радикализм в описании тех трагических дней, действительно, царил в 20-ые годы – тогда недавно отгремевшим сражениям давали людоедские оценки аля Джек Алтаузен:
Второй мне брат был в детстве мил.
Не плачь, сестра! Утешься, мать!
Когда-то я его учил
Из сабли искры высекать…
Он был пастух, он пас коров,
Потом пастуший рог разбил,
Стал юнкером.
Из юнкеров
Я Лермонтова лишь любил.
За Чертороем и Десной
Я трижды падал с крутизны,
Чтоб брат качался под сосной
С лицом старинной желтизны.
Нас годы сделали грубей;
Он захрипел, я сел в седло,
И ожерелье голубей
Над ним в лазури протекло.
Тогда же Эдуард Багрицкий вложил в уста Дзержинского, явившегося в бреду тяжелобольному комсомольцу, слова, являющиеся своеобразным принципом отношения к классовым врагам:
Но если он скажет «солги!» – солги! Но если он скажет «убей» – «убей!»
Постепенно однобокая кровавая романтика сходила на «нет», уступая (либо же оставаясь в качестве не слишком популярного дополнения) место более взвешенному подходу, взгляду на мир не только из-под надвинутой на глаза будёновки. Мода на «комиссаров в пыльных шлемах» вновь появилась в 60-ые, совпав, как ни странно, с ростом популярности белогвардейских романсов и экранных красавцев-офицеров в золотых погонах и с неизменной грустью в глазах; потом любители и тех, и других будут радостно целиться в СССР и попадать в Россию. Но до этого было ещё далеко.
Пока же Шолохов в «Тихом Доне», Фадеев в «Разгроме», Федин в «Городах и годах», Весёлый в «России, кровью умытой» не чурались, рисуя «красную» правду, показывать жестокость (зачастую бессмысленную и иррациональную) обеих сторон и жуткую, апокалиптическую сущность братоубийственной бойни. Особое место в этом ряду занимает шолоховская «Родинка» и «Сорок первый» Лавренёва. У кого повернётся язык сказать, что это произведения о победе одной цветовой политической гаммы над другой? Это потрясающие по силе памятники гуманистической традиции русской литературы, возведённые «от противного», через демонстрацию низшей точки антигуманизма, сравнимой с глубиной преисподней. Что может быть более чудовищно, чем убийство отцом – сына, любящей женщиной – любимого мужчины?
А ещё упорно лезет в голову рассказ Бориса Садовского «Бурбон», перекликающийся и с «Родинкой», и с «Сорок первым», и, помимо прочего, с «Поединком» Куприна. Он написан за четыре года до штурма Зимнего и внезапного приступа усталости караула матроса Железняка, но вполне может разделить название «Предчувствие гражданской войны» со знаменитой картиной Дали.

Сюжет? В провинциальный уланский полк за две дуэли ссылают блестящего гвардейского офицера Гременицына, молодого красавца, повесу и просто аристократа. Он начинает ухаживать за дочкой фельдшера, та отвечает взаимностью, но вот незадача – девушка уже просватана за престарелого, выбившегося из солдат корнета Мокеева («бурбона»), простого и глуповатого служаку, презираемого однополчанами. Между Мокеевым и Гременицыным происходит разбирательство, столичный бонвиван отвешивает своему визави пощёчину, тот, дрожащий от унижения, решает подать рапорт об отставке. Но полковой «суд чести», разве что не зажмуривающий нос, чтобы показать «бурбону» своё «фе», принимает постановление: сначала поединок, чтобы смыть оскорбление кровью, а затем пусть катится на все четыре стороны. Гременицын хочет просто «проучить» незадачливого и нелепого соперника, сбивает саблей фуражку с его головы и ожидает ответного жеста благородства.
В тот же миг бурбон дико поднял кровавые глаза, и Гременицын зажмурился невольно, встретя их медвежий, освирепелый взгляд.
Со всей силы обрушил Мокеев удар свой на голову врагу, крякнув, как будто рубил капусту. Гременицын свалился. Голова его разъята была надвое вместе с фуражкой; тяжелая сабля с маху перешибла тонкое переносье и вытекший левый глаз и застряла в белых зубах, раздробив свежевыбритый подбородок. Секунданты в тупом оцепенении глядели на дергавшийся последними судорогами труп. Кровь, струясь ручейком, мочила подошвы Кислякову. Бурбон, стоя над покойником, ревел в голос, как баба, и крупные слезы дробно бежали по рябым щекам.
Век спустя мы почти неотвратимо вступаем в очередное – какое уж по счёту! – смутное время. Кровь пока не льётся, но всё ожесточённее становятся кухонные разговоры, всё чаще ругаются вдрызг друзья, собирающиеся ставить галочки в разных квадратиках бюллетеня или же не ставить их вовсе, всё более явно многотысячные демонстрации своими бурными потоками размывают привычную скуку повседневности. Общество пробуждается – и это, конечно же, плюс. Но если пробудиться слишком резко – можно больно стукнуться о полку над кроватью, а от плюса до минуса, как мы помним, расстояние у нас минимальное. И лучше не забывать об этом, дабы не пришлось затем рыдать над трупами.
Станислав Смагин, политолог
Перейти к авторской колонке