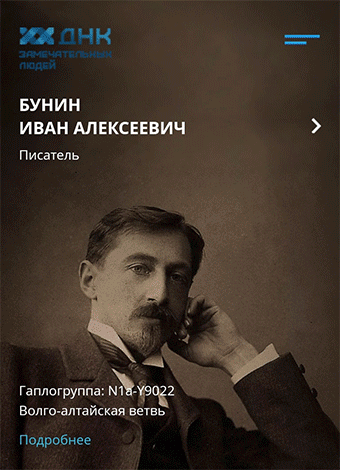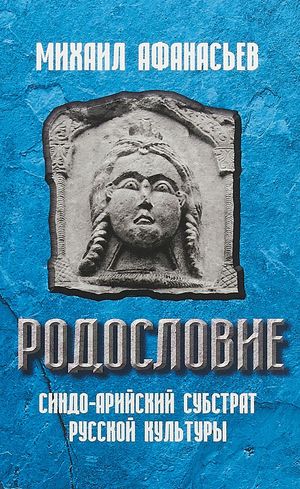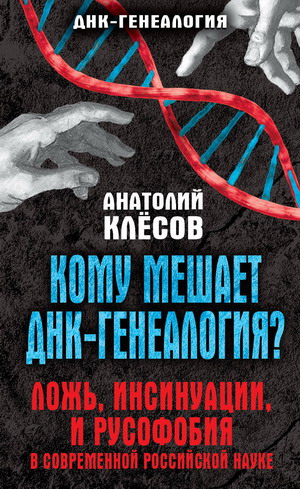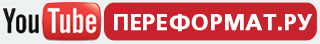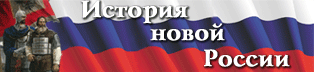В международном англоязычном сборнике (2011), выпущенном в Берлине издательством «De Gruyter», вышла статья доктора филологических наук, профессора С.Н. Азбелева «Слово о полку Игореве» и его средневековое окружение в русской устной эпической поэзии. В России и вообще на русском языке она до сих пор не публиковалась. Поэтому автор предлагает её вниманию читателей сайта pereformat.ru.

Слово о полку Игореве. Палехская лаковая миниатюра Анны Котухиной (1956 год)
Все ли основные жанры русской устной поэзии достаточно известны науке? Такой вопрос становится правомерным, когда речь идет не о современном или недавнем состоянии фольклора, а о более или менее отдаленной истории. Традиционные представления об его жанровом составе основываются почти исключительно на материале, который зафиксирован записями XIX и первой половины XX столетия. Если бы научное собирание произведений устной поэзии началось только полвека назад, то, например, отнесение былин к основным жанрам оказалось бы гипотезой. Для обоснования ее пришлось бы сопоставлять редкие и малоценные фиксации второй половины ХХ века со «Сборником Кирши Данилова» и немногочисленными записями XVII столетия, порой в довольно сильной степени литературно обработанными. Сходную картину представляло бы изучение других классических жанров.
Очевидно, что исчезновение одних видов устной поэзии и замещение их другими происходило и прежде. Нет оснований утверждать, что записями XIX века заметно отражены все жанры, бытовавшие широко, допустим, в XII или XIV столетиях. Крупные исторические потрясения, экономические и социальные сдвиги, происшедшие в XVI, XVII и XVIII веках, крутая ломка традиций древнерусской культуры, начавшаяся в петровское время – все это должно было отразиться на судьбе каких-то жанров таким же образом, как отразились, например, социальные катаклизмы XX столетия, на судьбе былин. A priori можно предположить, что уходить из живого репертуара должны были такие виды устной поэзии, которые еще ранее завершили период своего продуктивного развития и существовали только как наследие, слабо пополняемое новообразованиями.
XVI, XVII и отчасти XVIII столетия справедливо признаются временем наивысшего развития русской исторической песни. Исторических песен, датируемых предшествующим временем, очень мало, а сама их ранняя датировка иногда оспаривается. Трудно было бы объяснить почти полное отсутствие более древних исторических песен только плохой сохранностью материала. Естественно предположить, что ранее первенствующее место в сфере исторической поэзии принадлежало какому-то другому жанру. Когда наступил расцвет исторической песни, жанр этот, оттесненный ею на периферию устного репертуара, сохранялся глазным образом по инерции, а позднее исчез, не будучи приспособлен к изменившимся общественным запросам.
Принятие такого допущения помогло бы, в частности, объяснить, почему сравнительно глухо оказались освещены в живом репертуаре XIX-XX веков наиболее громкие исторические события борьбы за свержение татаро-монгольского ига. Предположение, что ранее XVI столетия не была еще достигнута достаточно высокая ступень историзации народного сознания, могло бы дать иное объяснение, но само это предположение требует подкрепления фактами. Ни данные русской литературы того времени, ни сравнительный материал фольклора других народов, находившихся на сходной стадии и в сходных условиях исторического развития, такого предположения не подкрепляют. Поэтому поиски следов развитой устной исторической поэзии X-XV веков сами по себе вполне оправданы. Результаты же их могут дать новый материал для представлений о том, как эволюционировало освещение фольклором исторической реальности.
Среди устных исторических повествований, записанных в XIX веке, попадаются иногда произведения несколько загадочные и выделявшиеся настолько резко, что публикаторы и исследователи не признавали эти записи за тексты преданий, а относили их условно то к историческим сказкам, то даже к былинам, или просто заявляли о странной и необычной структуре, которая, будучи произведением устной поэзии, напоминает, однако, некоторые образцы, приписываемые обычно литературному творчеству средневековой Руси. Однако по содержанию не все такие произведения могли быть возведены к средневековой традиции. Так, например, Е.В. Барсовым была опубликована запись ритмизированного сказания о встрече Петра I со шведами. Барсов констатировал:
Рассказ этот в художественном отношении так превосходен, что мы ничего не знаем подобного в русской повествовательной литературе. По местам мы можем приравнивать его только к «Слову о полку Игореве.1
Другим примером, относящимся уже к более раннему периоду, может служить так называемая алтайская версия былины о Сухане.2 О ней В.Я. Пропп высказывал в печати убеждение, что это «произведение иной поэтической системы, чем былина». По выражению В.Я. Проппа, данный текст «представляет собой устную повесть».3 Сам этот термин представляется не вполне удачным: такие произведения удобнее называть героическими сказаниями.
В свое время К.В. фон Зюдов дал на международном материале общую характеристику особой разновидности фольклора, которую он называл Heldensagen. По содержанию это эмоционально приподнятые, претендующие на достоверность повествования о подвигах реально существовавших героев. Сказание может в большой степени удаляться от реальности, широко используя мотивы и художественные средства, заимствованные из произведений иных жанров. При этом события, имевшие место в действительности и послужившие отправным пунктом сказания, приукрашиваются и дополняются плодами народной фантазии. Героическое сказание не дает полной биографии персонажа, а сосредоточивается только на тех ее моментах, которые способны вызвать подъем чувств у слушателей. Для таких сказаний характерна особенность, которую К.В. фон Зюдов именует gebundene Form, разумея под этим ритмически или метрически организованную речь. Впрочем, он замечает, что такая форма изложения может чередоваться с обычным прозаическим повествованием; сказание может быть и целиком прозаическим. К.В. фон Зюдов отмечал, что героические сказания – это подвижные и не очень долговечные образования:
Они распадаются с утратой их активных носителей, что случается, между прочим, при крупных переворотах в области культуры, и рассыпаются на составные элементы; они могут перерождаться в рассказы-припоминания (Erinnerungssagen) или в фабулаты.4
Упомянутый алтайский текст был записан от исполнителя, который утверждал, что передает повествование о Куликовской битве 1380 г. – в ответ на просьбу собирателя сообщить, что он знает о «Мамаевом побоище». С.К. Шамбинаго предполагал, что алтайская версия восходит к литературному источнику – к древнерусской Повести о «Мамаевом побоище».5 Действительно, перекличка в содержании здесь несомненна. Есть и стилистические параллели, что позднее отмечал Б.М. Соколов, согласившийся с выводом С.К. Шамбинаго.6 Однако, как показал вскоре С. Рожнецкий, параллели не свидетельствуют о заимствовании из повести.7 Следует согласиться с В.Я. Проппом, который писал, что «эти совпадения доказывают обратное: они проникли из эпоса в литературу, а не наоборот, так как народное содержание повести требовало и народного стиля».8 К сказанному можно добавить, что вообще использование Повестью о «Мамаевом побоище» устных произведений о Куликовской битве – факт доказанный, поэтому сам алтайский текст естественно считать остатком одного из таких произведений, бытовавшего в течение нескольких столетий в устной традиции.
В этом убеждает и материал некоторых других записей XIX века, из которых остановлюсь сейчас коротко только на одной – обширном героическом сказании о подвигах русского посла Захария Тютчева, которое было записано А. Харитоновым и издано А.Н. Афанасьевым.9 В отношении этого произведения удалось показать путем текстологического анализа, что оно было одним из источников Повести о «Мамаевом побоище». Последняя, несомненно, использовала на значительном своем протяжении какие-то из ранних версий именно этого сказания, причем оно привлекалось неоднократно составителями разных редакций повести. Факты указывают на то, что именно повесть пользовалась устным сказанием, а не наоборот.10
Что касается самой Повести о «Мамаевом побоище», этой, по выражению О.Ф. Миллера, «сводной повести полуисторической, полуэпической»11, то она известна теперь в сотнях рукописей, представляющих около десяти редакций. Почти все они непосредственно привлекали в той или иной степени материал устных источников. Это были, очевидно, и рассказы участников битвы 1380 года, и возникавшие на основе таких рассказов исторические предания, и героические сказания. Один из первых исследователей этой повести справедливо писал, что, несмотря на то, что в целом она «получает характер серьезного назидания в христианском духе», в ее изложении по временам ярко проступает «дух боевого мужества, жадного к чести и доброму славному имени. Этот полный энергии дух ратной удали и молодечества отпечатлевается и в речи – бойкой, быстрой, отрывистой, блещущей картинными сравнениями, живьем взятыми из народного эпоса».12
Ранние редакции этой повести по своему стилю соотносятся с героическими сказаниями о Куликовской битве примерно так же, как соотносятся с былинами их письменные переложения, известные в текстах XVII-XVIII веков и изданные некогда в серии «Памятники русского фольклора».13 Однако в целом Повесть о «Мамаевом побоище» обязана, все же традиции литературной. Цитаты из устных героических сказаний по большей части сравнительно четко выделяются стилистически, и ни один из списков повести не представляет собой запись или даже обработку устного текста на всем своем протяжении.
Иначе обстоит дело с другим хорошо известным памятником, который сохранился только в шести рукописях и имеет в них разные заглавия: «Сказание о Донском бою», «Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче <...>» и некоторые другие. В научной литературе его обычно называют «Задонщиной», хотя еще академик И.И. Срезневский некогда отмечал, что в подлинном тексте слово «Задонщина» употреблено не как название произведения, а как название Куликовской битвы, которая происходила за Доном. На устное происхождение этого произведения впервые указал именно И.И. Срезневский 150 лет назад. В то время было известно всего две рукописи «Задонщины» и относительно небольшое число списков Повести о «Мамаевом побоище». Позднейшие находки новых текстов дали новые подтверждения мыслям одного из крупнейших русских филологов. И.И. Срезневский писал:
Сличая два списка Задонщины, вижу отличия, видоизменения выражений, подстановки мест, подстановки имен и лиц – такие, каких переписчик делать не мог – по крайней мере так часто и так произвольно, как может делать только тот, кто пишет не с книги или с тетради, а с памяти. Вижу сверх того такое обилие, такую случайность грамматических неправильностей, каких нет в списках других памятников, как бы ни был безграмотен переписчик, и в этом видится мне, что Слово (о Задонщине, – С. А.) писано не с готового извода, а по памяти, если не в эти сборники, где оно нашлось, то в другие, из которых оно попало в эти. Если же оно было записываемо в книгу по памяти, то значит было достоянием памяти, переходило от лиц к лицам как предание, произносилось в каких-нибудь приличных случаях или напевалось, подобно былинам, думам, стихам, притчам, было в ряду с ними <...>. Если же это справедливо, то в Задонщине мы имеем образец особого рода народных поэм исторического содержания».14
Далее И.И. Срезневский, высказав мнение об устнопоэтической природе не только «Задонщины», но и «Слова о полку Игореве», ставил вопрос, «не были ли общею особенностью целого ряда таких поэм» характерные черты, встречающиеся не только в этих памятниках, не было ли аналогичных предшественников в устной поэзии еще у «Слова о полку Игореве». Он писал:
Ярки не менее других, если не более, и отличия в изложении и в слоге Слова о полку Игореве: их заметишь, где бы они ни попались; а заметя, невольно вспомнишь об этом Слове, потому что ничто другое не напоминает о них так резко. Из этого, однако, не следует, что ему одному они и могли принадлежать. Самая яркость их в нем, мне кажется, доказывает, что они появились не в нем первом, что в нем они достигли полноты уже вследствие развившегося пристрастия к ним. Их же заметили и в произведениях тоже древних, только в отрывочном виде; их же заметили и в произведениях народной устной словесности, повторяемых доселе,- заметили в том, что уже никак нельзя было поставить в ряд подражаний Слову о полку Игореве: это еще положительнее доказывает, что особенности, напоминающие это слово, были в ходу и без его влияния. В Задонщине кое-что кажется дословно взятым из Слова о полку Игореве; но такое же дословное сходство находим и между произведениями других родов (житиями святых, духовными стихами, историческими повестями, сказками, былинами, думами, песнями),- и оно, однако, ничем не смущает нас; вместе с этим в Задонщине находим многое такое, что хоть и так же сложено, но по содержанию и по выражению отлично от Слова о полку Игореве. Откуда же взято это? В повестях и сказаниях о Мамаевом побоище есть также места, отличающиеся от всего окружающегося такими же точно приемами, то приемами изложения и слога вместе, то только приемами изложения, и между ними есть такие, каких нет ни в Слове о полку Игореве, ни в Слове о Задонщине. Эти места – очевидные вставки и доказывают, с одной стороны, что они нравились, а с другой – что был источник, из которого их можно было почерпать. Что же это за источник? И для этого, как для всего другого подобного, источник один и тот же: поэмы вроде Слова о полку Игоря, их дух, их мысль».15
Двадцать лет спустя академик В. Ягич в своей известной работе о славянской народной поэзии говорил о «Слове о полку Игореве» и о «Задонщине» как о «единственных остатках старой малорусской и южной великорусской эпической поэзии». Он высказывал ту же мысль, что и Срезневский:
Может быть, многие поэтические образы и фразы переходили посредством заимствования из одной песни в другую как общенародное достояние, как материал, более или менее известный, во всякой былине или думе.16
Нетрудно было бы назвать целый ряд филологов и историков XIX-XX вв., высказывавших аналогичные мысли об устнопоэтической природе «Задонщины» и «Слова». Академик А.Н. Пыпин в своей «Истории русской литературы», говоря о «Задонщине», подробно цитировал приведенные мной высказывания И.И. Срезневского и подкреплял их мнением, что на мысль о существовании недошедших памятников устной поэзии, подобных «Задонщине», «наводит прежде всего «Слово о полку Игореве», между прочим прямыми указаниями на старые песни; наводит и эпическая былина, которая хотя не есть подлинная древность, но снимок с древности».17 Тезис об устно-поэтическом происхождении этих памятников был поддержан в работах И.П. Хрущова, П.Н. Полевого, П.А. Бессонова, С.М. Соловьева и других исследователей.18 Об устном происхождении «Слова о полку Игореве» писал затем и академик А.А. Шахматов.19
В позднейшей исследовательской литературе идея И.И. Срезневского была особенно аргументированно подкреплена В.Ф. Ржигой, который приходил к выводу, что «преобладающий песенный характер Задонщины становится совершенно очевидным», отмечая, в частности, что в рукописях есть «неисправности текста», которые «явно обнаруживают свое звуковое, а не графическое происхождение». В.Ф. Ржига полагал, что «Софоний подражал Слову о полку Игореве не книжным путем, а путем воспроизведения на слух и запоминания».20 В.П. Адрианова-Перетц, рецензируя эту работу, приводила ряд собственных наблюдений, аналогичных наблюдениям В.Ф. Ржиги, и писала, что они «подтверждают мысль И.И. Срезневского, развитую В.Ф. Ржигой, об устном источнике списков «Задонщины», и что мнение последнего о «роли песенного начала» является «чрезвычайно плодотворным».21
Мысль о восхождении списков «Задонщины» к устным оригиналам была высказана И.И. Срезневским на материале двух известных в то время рукописей. Старший Кирилло-Белозерский список, датируемый второй половиной XV столетия, находится в рукописи, принадлежавшей руке книгописца Ефросина.22 В этом списке есть мелкие искажения и интерполяции, которые не могли присутствовать в непосредственной записи устного текста на слух или по памяти. Следовательно, сама запись была осуществлена ранее появления этой древнейшей рукописи. Что касается позднейших рукописей «Задонщины», то и их восхождение к устным оригиналам также аргументировалось разбором текстуальных особенностей (в связи с чем В.П. Адрианова-Перетц писала об «устном источнике списков “Задонщины”»).23
Особо следует упомянуть исследование видного фольклориста (и одновременно – специалиста по древнерусской литературе) А.И. Никифорова. Эта работа (объемом около двух тысяч машинописных страниц) весной 1941 года была защищена им в качестве докторской диссертации. Год спустя А.И. Никифоров погиб в осажденном Ленинграде. Он успел опубликовать только первую главу своего исследования.24 Некоторые фрагменты из него были напечатаны со вступительными пояснениями посмертно.25 Развивая центральную мысль И.И. Срезневского, А.И. Никифоров посвятил свой труд доказательству того, что в средневековой Руси существовала традиция высокого устнопоэтического искусства, следы которой дошли до нас главным образом в виде немногих записанных (но устных по происхождению) памятников – «Слова о полку Игореве», «Слова о погибели Русской земли» и нескольких разновидностей «Задонщины». Возникавшие в данной связи вопросы рассматривались автором разносторонне. В центре исследования находилось «Слово о полку Игореве» (которое, согласно выводам А.И. Никифорова, сохранялось в устной традиции до конца XIV столетия). «Задонщине» ученый посвятил пятнадцать авторских листов, причем более половины этого объема было отведено текстологическому рассмотрению всех шести списков.
О фактической неизвестности работы А.И. Никифорова позднейшим специалистам по древнерусской литературе говорилось даже в печати. Так, автор опубликованной полвека назад наиболее обстоятельной книги об истории изучения «Слова о полку Игореве», кратко проаннотировав это исследование, писал:
В научной литературе фундаментальный труд А.И. Никифорова по изучению «Слова» совершенно игнорируется, о нем нигде не упоминается ни одним словом, тогда как его изучение и популяризация может дать немало интересных наблюдений и любопытных материалов».26
Через сорок лет аннотация труда Никифорова все же появилась в «Энциклопедии Слова о полку Игореве». Однако это не повлекло за собой обращений в работах российских медиевистов к результатам исследования, которое хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук.27
Изучая метр и ритм «Задонщины», А.В. Позднеев пришел к заключению, что она относится к кондакарной системе и имеет тенденцию к введению стихов с одинаковым числом ударений.28 Этот вывод оказывается приложим и к тем фрагментам Повести о «Мамаевом побоище», которые И.И. Срезневский считал одного происхождения с «Задонщиной». Мнение, что рукописная «Задонщина» восходит к записи устного текста, ныне разделяет в принципе большинство исследователей, пишущих об этом памятнике.29 Текстуальные совпадения отдельных фрагментов Повести о «Мамаевом побоище» с «Задонщиной» довольно многочисленны. Л.А. Дмитриев полагал, что такие фрагменты в повести – «не выписки из письменного текста Задонщины»: автор повести, как видно, знал этот текст «наизусть» и вставлял из него по временам «либо целые отрывки, не подвергая их изменению или переработке, либо отдельные фразы и слова из различных мест, объединяя их в собственные поэтические картины».30
Стилистически вставки из «Задонщины» достаточно резко отличаются от тех частей Повести, которые не восходят, очевидно, к записям устных героических сказаний. Вот пример такой вставки в контексте.
Учрежено войско их: князь Федор Семенович, князь Семен Михайлович, князь Александр Кемский, князь Глеб Каргомьский и Андомския князи; приидоша же Ярославские князи со всеми силами: князь Андрей Ярославский, князь Лев Суропский и инии многи. – Уже бо, братья, не стук стучит и не гром гремит, стучит сильная рать великого князя Дмитрея Ивановича в славном граде Москве, а гремят русские сынове злачеными доспехи. – Князь же великий Дмитрей Иванович поим с собою брата своего князя Владимира Андреевича и все князи русские православныя и еде к живоначальной Троице, ко отцу своему духовному преподобному старцу Сергию, благословение получити от тоя обители святыя».31
Но есть и немало примеров, когда ни по содержанию, ни по форме отрывки, сходные с Задонщиной, не выделяются из контекста повести. Это те случаи, когда сам контекст оказывается большой вставкой из устного сказания. В подобного рода пассажах путем текстуального сличения можно выявить, что отдельные фразы и словосочетания совпадают с «Задонщиной», что в них встречаются параллели и к «Слову о полку Игореве». Приведем один из таких примеров.
Тогда же возвеяша силни ветри по Бервице широте, воздвигошеся велицы князи, а по них рускии сынове успешно грядут, аки медвяны чаши пити и стебле винны ясти. Но не медвяны чаши пити, не стебле винны ясти грядут: хотят укупити чести и славнаго имяни во веки земли Руской, великому князю Димитрею Ивановичю похвалу и многим государем. Дивно и грозно бо в то время слышати, а громко в варганы бьют, тихо с поволокою ратные трубы трубят, многогласно и часто коне ржут. Звенит слава по всей Руской земли. Велико вечье бьют в великом Новеграде, стоят мужи новъгородцы у Святыя Софеи Премудрости Божия, а ркучи межу собою таковое слово: Уже нам, братие, на помощь не поспети к великому князю Димитрию; уже бо яко орли слеталися со всеи Руской земли, съехалися дивные удалцы, храбрых своих пытати. Не стук стучит, не гром гремит, по зоре стучат и гремят руские удальцы.32
Отрывок в идейно-художественном отношении однороден. С «Задонщиной» же он совпадает лишь в некоторых своих частях. Встречаются и отдельные параллели к «Слову о полку Игореве».33 Вместе с тем, этот однородный текст – той же природы, что и другие поэтические фрагменты Повести о «Мамаевом побоище», не имеющие текстовых параллелей ни в «Слове», ни в «Задонщине». Естественное объяснение заключается в том, что «Слово», и «Задонщина» (точнее – устные их оригиналы) относится к таким же героическим сказаниям устного происхождения, возникли на базе единой с ними художественной традиции.
Производя сопоставления, приходится, конечно, учитывать некоторое несовершенство средневековых текстов. Мы не знаем, до какой степени точно передают свои устные оригиналы списки с записей сказания о «Задонщине» и многочисленные отрывки Повести о «Мамаевом побоище», а также другие аналогичного рода древнерусские тексты, посвященные другим сюжетам, которые в настоящей статье не рассматриваются, но учитываются. Сама рукописная традиция должна была в той или иной степени деформировать первоначальный текст. Есть места, явно испорченные при переписке, есть и несомненные интерполяции самих писцов. Вместе с тем, видно, что, копируя свои письменные оригиналы, писцы поправляли их на основании известных им устных вариантов того же сказания о «Задонщине» и других сказаний подобного рода. Бытование записей в рукописной традиции, таким образом, как бы корректировалось традицией устной. Полная точность передачи устных оригиналов далеко не всегда присуща и тем записям XIX века, которые вошли в классические собрания. Если мы миримся с этим фактом даже в отношении, например, собрания А.Н. Афанасьева, то нет, конечно, причин считать недостаточную точность препятствием для фольклористического изучения, когда речь идет о записях XV, XVI или XVII столетий. Поскольку в фиксациях этого времени довольно ясно ощущается ритмическая структура текста, следует полагать, что дефекты таких записей в целом сравнительно невелики.
Попытаюсь коротко охарактеризовать то общее, что объединяет научные записи русских героических сказаний, осуществленные в XIX веке, и соответствующие средневековые тексты (при этом буду учитывать не только «Слово о полку Игореве» и сказания о Куликовской битве, но и другие сюжеты). Количество привлеченных текстов, если иметь в виду полные фиксации и значительные по протяженности фрагменты, составляет около семидесяти. Из средневековых текстов в это число входят, разумеется, только те, которые отражают прямо или опосредованно использование самой устной традиции, а не являются лишь порождением последовавшей филиации рукописных списков.
Героическое сказание повествует непосредственно о конкретных исторических фактах, сближаясь этим с историческим преданием и исторической песней. Сказанию свойственен конкретный историзм в отличие от условного историзма былины. Герои сказаний – это лица реально существовавшие, достоверно называемые и фигурирующие не в условном эпическом мире, а в исторической обстановке своей эпохи.
В былинах о разгроме вражеских нашествий фигурирует главным образом богатырь Илья Муромец, фольклорный образ которого сложился на основе использования исторического прототипа, жившего, очевидно, много раньше набегов половецких войск и татаро-монгольских вторжений на Русь.34 Иначе обстоит дело в «Слове о полку Игореве» или в сказаниях о Куликовской битве: здесь описываются деяния князя Игоря Святославича Новгород-Северского и его родного брата Всеволода, великого князя Дмитрия Ивановича Московского и его двоюродного брата Владимира Андреевича, как и их достоверно названных современников, чьи имена и деяния были засвидетельствованы историческими источниками, не зависевшими от фольклорной традиции. Соотносятся в общих чертах с данными таких источников и сюжеты подобных произведений.
Однако героическое сказание, в отличие от исторического предания, имеет установку не столько на информирование о фактах, сколько на прославление деяний своих персонажей. Это выражается и в отборе исходного материала, и в структуре повествования.
В период расцвета героических сказаний им была свойственна весьма разработанная поэтическая система. А.И. Никифоров убедительно показал на множестве примеров, что эти поэтические приемы имеют массу параллелей в других жанрах восточнославянского фольклора. Однако как целостная система они не встречаются ни в одном из них. Сами же параллели указывают, по-видимому, на то, что многие жанры устной поэзии не только влияли сами, но и испытывали на себе влияние высокоразвитой поэтики героических сказаний.
Лучшие образцы таких сказаний представляли собой произведения большой поэтической изощренности. Этот жанр требовал высокой профессиональной культуры. Произведения его должны были создаваться и исполняться мастерами, находившимися, если можно так выразиться, на самых верхних ступенях квалификации носителей устной художественной традиции.
По-видимому, в Древней Руси существовало явление, в каких-то отношениях аналогичное поэзии скальдов. Согласно заключению Д.М. Шарыпкина, рассматривавшего в данной связи специально «Слово о полку Игореве», «творчество Бояна в стадиально-типологическом отношении находится в сродстве с поэзией скальдов», о чем «можно судить по тексту “Слова”»; в самих же хвалебных песнях Бояна «скальдические приемы и образы составляли прочную стилистическую структуру».35 Поэзия скальдов, как известно, давала пример того, что устная традиция в средние века могла достигать даже более высокой степени разработки поэтического мастерства, чем современная ей письменная литература этого же народа.36 Отражения устных героических сказаний в древнерусской письменности дают материал для типологических сопоставлений с некоторыми особенностями творчества скальдов. Есть основания думать, что героические сказания имели ряд разновидностей, которые могут быть выявлены при более детальном изучении текстов, сохраненных в средневековой русской письменности. Ошибочно было бы полагать, что некогда на Руси существовало нечто тождественное скальдической поэзии (по крайней мере подтверждающих это русских текстов нет). Но, по-видимому, существовал сопоставимый с ней в ряде особенностей тип устной художественной культуры. Существовала поэзия, по-своему представлявшая тот этап на пути развития художественного сознания, какой был отражен творчеством скальдов.
Естественно, что поэзия подобного рода с изменением породивших ее исторических условий должна была постепенно угаснуть. Однако уход из живого устного репертуара героических сказаний был обусловлен, по-видимому, не только историческими переменами и постепенным исчезновением той социальной среды, потребности которой обслуживал этот жанр в первую очередь. Поскольку сюжет героического сказания должен был следовать контурам своей фактической основы, композиционные возможности были сравнительно невелики. Занимательность повествования неизбежно должна была отступать на задний план. Эпическая гиперболизация, столь органичная в былинах и также способствовавшая интересу к ним, мало свойственна героическому сказанию и обнаруживается более всего в самих поздних вариантах, испытавших на себе влияние былинной поэтики. Собственная же поэтика сказаний, в силу своей изощренности, далеко не в каждой аудитории могла быть полностью оценена и далеко не каждым исполнителем могла быть адекватно передана. Сложности художественной системы героического сказания сопутствовала ограниченность таких его внутренних возможностей, которые обеспечивали бы сохранность произведения в устном репертуаре после утраты им исторической актуальности. Этим, очевидно, во многом объясняется относительная недолговечность произведений данного жанра. Героические сказания постепенно уступили место историческим песням с их менее сложными изобразительными средствами, более простой композицией и легче фиксируемой в памяти песенной формой.
Подъем национального самосознания, вызванный во всех слоях русского общества победой на Куликовом поле, породил последнюю, очевидно, волну героических сказаний, многочисленные следы которой дошли до нас в виде записей и реминисценций в литературе XV-XVII веков. Позднейшие отголоски этих сказаний засвидетельствованы редкими отдельными записями, которые удалось еще сделать некоторым собирателям XIX столетия.
Но даже лучшие поздние записи, несмотря на все их достоинства, свидетельствуют уже о разрушении жанра. Примером этого является даже превосходный в некоторых отношениях текст, записанный А. Харитоновым. Хотя В.Я. Пропп и не без оснований заметил, комментируя эту запись, что она имеет много общего с Задонщиной37, можно заметить явный отход от ее поэтической системы, явную тенденцию к сближению с былинами при одновременном опрощении художественной структуры и значительном разрушении ритма. В ритмическом отношении более стройным выглядит алтайский текст о Мамаевом побоище, но он по содержанию представляет собой уже контаминацию с былиной, что и позволило ряду исследователей считать данный текст особой версией былины.
Тенденция героических сказаний к контаминированию с былинами приводила и к возникновению новых былинных сюжетов.38 Генетическая связь героических сказаний прослеживается не только с произведениями былинного эпоса, но и с историческими преданиями, и с исторической песней. Южнославянская песня о Куликовской битве, известная по двум записям XIX века – Вука Караджича и Манойло Кордунаша, – несомненно связана не только по содержанию с героическим сказанием, которое записал А. Харитонов, и с соответствующими фольклорными фрагментами Повести о «Мамаевом побоище». Эта песня содержит и довольно ясные параллели к «Задонщине».39
Существенно, что не оказывается непереходимой грани между условным историзмом былин и конкретным историзмом таких жанров как героическое сказание, историческая песня, историческое предание. Целесообразно учитывать то обстоятельство, что героическое сказание, историческое предание или историческая песня в ряде случаев могли служить своего рода посредствующим звеном между былиной и историческим фактом.
Сергей Николаевич Азбелев,
доктор филологических наук, профессор
Перейти к авторской колонке