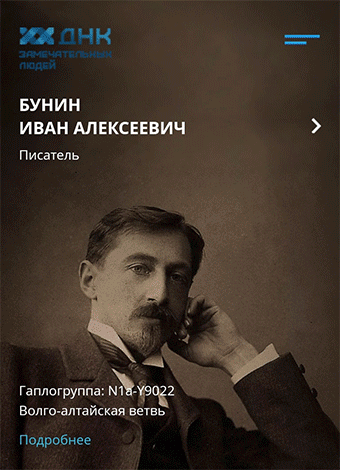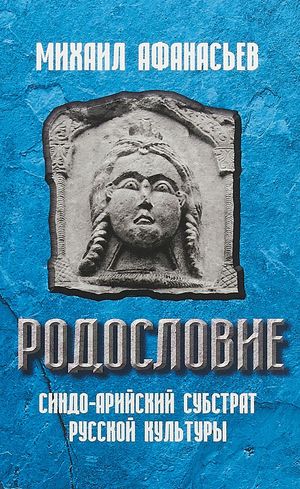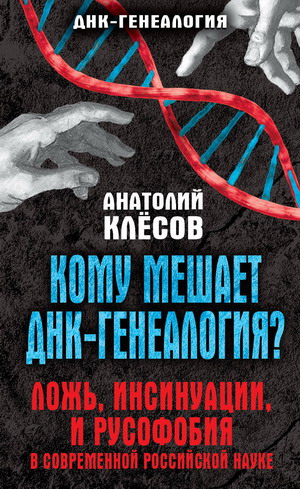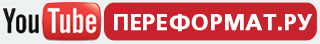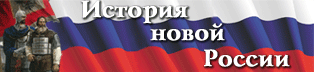В 2008 году, почти пять лет назад, исполнилось столетие со дня рождения выдающегося историка и археолога, академика Бориса Александровича Рыбакова. К этой дате был снят пронзительный фильм «Зима патриарха», который не слишком заметили. И совершенно напрасно! Фильм достоин самого широкого внимания. Режиссер – Александр Капков, ГТРК «Культура».
Б.А. Рыбаков родился в 1908 году. С конца 30-х гг. работал на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, вёл полевые археологические исследования в древнерусских городах. С 1956 по 1987 гг. – директор Института археологии АН СССР. Основные научные труды: «Ремесло Древней Руси» (1948), «Первые века русской истории» (1964), «Слово о полку Игореве и его современники» (1971), «Геродотова Скифия» (1979), «Язычество древних славян» (1981), «Киевская Русь и русские княжества ХII-ХIII вв.» (1982), «Язычество Древней Руси» (1987), «Петр Бориславич: поиск автора Слова о полку Игореве» (1991), «Стригольники: русские гуманисты ХIV столетия» (1993).
Учёный скончался 27 декабря 2001 года. Незадолго до смерти Борис Александрович дал последнее интервью, в котором фактически подвёл итог своей яркой и интересной жизни.
Вы родились в начале двадцатого столетия, присутствовали при его завершении. Какое оно для вас?
Это мое столетие. Но, если говорить точнее, то я – человек двадцатого столетия.
Можете ли охарактеризовать его кратко?
Нет, одним словом сказать невозможно. Даже одной лаконичной фразой не выразишь суть. Век развития техники – несомненно. Век социальных конфликтов – несомненно. Век грандиозных войн – тоже несомненно. Нет, чтобы охарактеризовать наш век, нужен гений Пушкина.
Это уже ответ. Спасибо.
Тяжелое столетие. Тем более что усовершенствовались методы уничтожения человечества. Оружие стало смертоносным, многосмертельным и используется более цинично. Это мы знаем по балканской трагедии.
Но ведь и положение человека не улучшилось?
Ни здесь, ни там. Может быть, двадцать первый век улучшит жизнь человечества!
Вы думали о своем предназначении?
Я не задумывался над этим.
Не кажется ли вам, что ваша жизнь – ваш научный подвиг – была предопределена?
Я не думал об этом. Я скажу вам, что всегда ощущал себя русским человеком. Такова была моя семья. Особенно со стороны матери. Ее отец был старый москвич в третьем поколении. А другие предки были из Пскова и Суздаля.
По отцовской линии?
Нет. А по отцовской – из Коломны. Тоже Центральная Россия. Старообрядцы. Старообрядчество дает какую-то историческую основу. Я с детства слышал рассказы о Ключевском, Виппере и других профессорах от отца, который был студентом Московского университета. Потом он стал директором Учительского института, и в столовой директора каждый день обедали профессора, человек восемь-десять, велись интересные разговоры. Поэтому лет с восьми я уже был в среде, где обсуждались разные исторические вопросы. И мама брала меня с собой лет с десяти на заседания какого-то педагогического совета, который принимал от художников картины на темы по русской истории. Они были напечатаны, конечно, в красках. Но сам этот процесс: художник работает над темой, потом приносит эскизы, это обсуждается: хвалят, ругают, оценивают. Затем эти картины были напечатаны. Я – ученик уже предпоследнего класса – и наш учитель (отличный учитель был) приносил нам эти картины в класс и по этим работам вел занятия, то есть свой рассказ иллюстрировал картинами. Мне эти обсуждения врезались в память и объединились с хорошими уроками Николая Тимофеевича Крюкова, и все это попало на плодородную почву.
Значит, фундамент вашей жизни – это семья? Возможно, я ошибаюсь, но ваша мама Клавдия Андреевна была филологом?
Она окончила женские курсы Герье по филологическому факультету.
Ваш отец Александр Степанович хотел, чтобы вы стали инженером…
Многое перепуталось тогда, когда можно было хотеть иль не хотеть. Отец и сам резко переменил профессию. Он стал специалистом по бухгалтерии. Написал учебник по бухгалтерии. И вообще он был человек, приспособленный для нэпа, энергичный, умеющий работать, но на меня влияния не оказал. Самое главное вот что: нас, московских школьников, советская власть спасла от голода. Несколько тысяч мальчишек и девчонок и учителей. Мы были посажены на пароходы и поплыли по Москве-реке, по Оке, а потом по Волге и по Каме до хлебородных губерний Казанской и Уфимской. Вот там провели три года до голода в Поволжье. Мы там ничего не читали: не было книг, но мы узнали крестьянский быт, быт охотников-отходников, которые уходили в дикие места охотиться. Там много было первобытного, в частности, курные избы. Я видел, как живут в этих избах. Блестящие, черные, как бы сверкающие лаком деревянные стены и светец с лучиной.
Вы как бы заглянули в прошлое?
Очень заглянул в прошлое. Потом я видел лодки, которые являли собой два бревна, довольно больших, связанных вместе прутьями. Сидя на этих двух бревнах, веслом можно было управлять ими и переправиться через реку. Медленно, но надежно. И потом я видел долбленую лодку с решеткой на корме, где я был занят огнем, а хозяин этой лодки острогой бил рыбу. Это реальное ощущение первобытности с тех пор постоянно было со мной.
А по цивилизации вы не грустили?
Конечно, я истосковался по Москве. И когда мы вернулись домой, мать работала в детском доме на Гончарной улице, я был приписан к нему как воспитанник, хотя так получилось, что я единственный среди детдомовцев был также учеником школы у Покровской заставы.
А когда же вы увлеклись историей?
Очень скоро я перестал ходить в школу на уроки, а стал посещать монастыри, детские библиотеки, пешком исходил (денег тогда не было, особенно не разъездишься) все окраины Москвы, подмосковные места: Кусково, Коломенское, конечно… Изучал архитектуру, читал – в детской библиотеке при большой Румянцевской (Ленинской) и при библиотеке Исторического музея. В общем, погрузился сразу в прошлое Москвы и Руси.
Я заметил по тому, как вы листали журналы, вашу любовь к церквям. И вот вы рассказываете о детстве, о своих путешествиях в Кусково, Коломенское… Что вас влекло к церквям? Чувство красоты? Или возможность прикоснуться к прошлому?
Нет, нет! Ничего ясного не было… Хотел знать Древнюю Русь.
Но это была интуиция?
Да, это была интуиция. Я самому себе не объяснял.
А может быть, это и было предопределением?
Конечно, это было какое-то предопределение. Весной 1922 года директор детского дома подозвал меня к себе и строго сказал: «Как дела в школе? Ничего? А ты знаешь, что ты остался на второй год? Так вот, ты остался!» Я приналег на все. Математика мне давалась легко. Биологию я любил. Историю – тем более. С языками – немецким и французским – у меня было все благополучно, географию я тоже знал. Мы с отцом во время первой мировой войны расставляли на карте флажки разных стран в зависимости от колебаний фронта. Все одно к одному шло. Целое лето я прозанимался как следует и перешел не в свой класс, а через класс. В общем, я учился в школе два года. Когда закончил учебу, мне было пятнадцать лет.
И пытались поступить в университет?
Нет. Я был шестнадцатилетним мальчишкой принят в институт Брюсова. Но скоро понял, что среди тридцатилетних студентов-фронтовиков, журналистов мне не место.
И пошли работать агентом по распространению «Рабочей газеты» на Серпуховской площади?
Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я поступил учиться в МГУ на историко-этнологический факультет. И посещал также лекции на филологическом.
А еще через год вы уже написали свою первую работу «О раскопках вятических курганов в Мякинине и Кременьи в 1927 г.», которая была опубликована в сборнике студентов археологического кружка 1-го МГУ.
Древние вятичи жили под Москвой. Студенты раскапывали эти курганы ХII века. А я в то время был редактором студенческого журнала, который делался на гектографе тиражом в сто экземпляров. Все-таки! Один экземпляр до сих пор храню в своей библиотеке. После окончания университета меня посылали на Урал в Алапаевск, где не было ни приличного музея, ни каких-либо славянских древностей. Город не упоминается в старинных источниках России. В общем, это была своего рода ссылка.
И что вы решили делать?
Пошел в военкомат и попросился на срочную службу. Меня взяли охотно. И год пробыл в армии. Это была учебная часть – своего рода юнкерское училище. У нас читали лекции военные авторитеты: будущий маршал артиллерии Н.Н. Воронов и царский генерал Самойлов. Я с огромным удовлетворением и наслаждением вспоминаю это время. Был очень рад тому, что попал в конное подразделение. И даже потом стал начальником конной разведки.
И конечно, ваш опыт общения с этими прекрасными животными как-то отразился потом на ваших изысканиях по «Слову о полку Игореве»?
Я еще в университете изучил этот древнерусский памятник культуры. А на службе произошло наложение знания «Слова» с моими знаниями о коннице, всего: от ковки до рубки, от скорости передвижения до маршрутов.
И тогда вы поняли, что комони – это боевые кони?
Да! И я стал поверять одно другим: кавалерийскую практику и тамошний текст. Я выявил даже, что перемена ритма в поэме выражает разные аллюры конницы: то тихая рысь – в одном отрывке, то рысь обыкновенная – в другом отрывке; все это передается соответственными интонациями мужественного командирского голоса. (В завершение Б.А. резко рубит рукой воздух. – А.П.) А вот это: «заране во пяток потопташа поганые полки половецкие» – карьер, «аллюр четыре креста» – скачка. Так что сам автор знал, видно, конное дело. Поэтому «Слово» для меня стало обязательным. Я был обязан все рассмотреть, разгадать тайны.
И вам это удалось сделать на высочайшем уровне. Анализируя столетие с 1132-го по 1237-1241 гг., названное вами «эпохой Слова о полку Игореве», вам удалось сделать новаторский вывод, что тогдашние крупные русские княжества представляли собой самостоятельные государства. И почти в каждом княжестве был свой летописец. Один из них, боярин князя Изяслава, и был, по вашему мнению, автором знаменитой поэмы. Как встретила научная среда и журналисты вашу книгу «Петр Бориславич: поиск автора Слова о полку Игореве»?
Рецензий было мало. Мне показалось, что я изложил свою точку зрения аргументировано и ненавязчиво. Я не мог сказать, что было это так-то, но везде писал, что, вероятнее всего, было так.

Анализируя ваш жизненный опыт, я заметил, что еще в двадцатилетнем историке был заложен фундамент ваших будущих работ по ремеслам, культуре и религии Древней Руси, теплился росток великого древа, ветви которого дали великолепную крону.
Зерно грядущих открытий прорастает еще в детстве.
А ваша книга о стригольниках, вышедшая пять лет назад, тоже была задумана в молодости?
Когда после службы в армии я пришел работать в Исторический музей, где был отличный отдел письменности, то там было много старинных книг вплоть до ХII века, рукописей, древних икон и крестов. Я все это изучал и еще шестьдесят пять лет назад написал работу о нестяжателях и иосифлянах. Она была опубликована под названием «Воинствующие церковники». Правда, эта статья не была прямо связанной с этой темой.
Как бы вы охарактеризовали идею этой книги?
Идея ее в названии «Стригольники: русские гуманисты XIV столетия». Стригольники – это их тогдашнее наименование.
Не было ли это церковное движение ересью в православии?
Нет. Это не было ересью. Они основных тезисов христианства и не касались. Они порицали часть духовенства за неправильное, с их точки зрения, поведение, «лихих пастухов». Это совпадало с решениями церковных соборов.
То, что вы взялись за эту многосложную работу, не говорит ли о том, что кровь ваших предков-старообрядцев в вас еще бушует?
Возможно. Мне эта тема гуманизма близка. Между прочим, у старообрядцев были строже нравственные законы. Потому многие из них были благочестивыми купцами.
Да, слово их много значило. Все эти Морозовы, Рябушинские… Есть ли какие-либо открытия о Древней Руси в науке за последние годы?
И русскими, и украинскими, и польскими археологами сделано очень много. Потом фольклор… Ведь его можно датировать. Фольклор южных племен был унесен в результате переселений на север и сохранился там. Наибольший интерес представляют волшебные сказки об охоте «на чудищ хоботистых». А эти животные и есть мамонты. Так фольклор приводит нас в палеолит.
У вас есть замечательный образ – «глубинная память народа».
Вот она – глубинная… хоботистые чудища. Они же исчезли пятнадцать тысяч лет назад.
Борис Александрович, что нового у вас в осмыслении предыстории Киевской Руси?
То, над чем я работаю сейчас, называется «Судьбы славянства: от Геродота до Нестора». В книге будет использовано много фольклора. Терминология будет интересная: двенадцатого века. «Историки и песнотворцы».
Ваша работа будет ограничена тремя тысячелетиями?
И на целое тысячелетие до Геродота простирается тоже.
Подводя итог вашей жизни, конечно же, не окончательный, скажите: вам все удалось сделать, что вы задумали?
Почти все. Кроме этой книги.
Как бы вы охарактеризовали ее суть?
Новая концепция предыстории Киевской Руси.
Ваше отношение к теории академика Фоменко и его последователей о новой периодизации истории человечества?
Самый лучший ответ – гробовое молчание.
Вас, видевшего создание и деятельность Советского государства, не огорчает его развал?
Меня возмущает их подлость: развалить государство. «Беловежская пуща» была бы хороша, если бы Белоруссия, Россия и Украина собрались, чтобы обдумать совместную политику. А что получилось в итоге? Реформы ничего не дали, кроме обнищания.
Что значит советский период в истории России для вас лично?
Я уже говорил вам о том, что советская власть спасла мое детство. При всех негативах было очень много положительного. Были результаты. Особенно во всех областях науки. Сегодняшнее отношение государства к ученым совершенно непонятно.
Не давила ли на вас политизация общества?
А я не был комсомольцем. В партию я вступил только в 1951 году, когда уже получил Сталинскую премию.
Потенциал народа! Многое удалось реализовать?
Культура. Наука. Образование. Конечно, в картине того времени были и темные пятна: известный схематизм. Потом – Маркс сказал, а мы должны верить, что именно так и было. А Маркс империализма не видел. Энгельс застал, да и то начало его. Маркс – умный философ, но он очень не любил Россию…
Верите ли вы в то, что Россия и на этот раз выйдет из кризиса?
Верю. Твердо верю. Было татаро-монгольское иго – и закончилось. Была дикость и разница с Европой – и уничтожилась. Была страшная война с одной из передовых стран Европы – и кончилась. Я убежден в том, что мы выйдем из этого кризиса. Но мое внутреннее убеждение не доказательство. Сейчас у многих народов бывшего СССР период детства свободы: этого хочу, того хочу. Повзрослеют – поймут, что можно иметь, а что – необходимо подождать. Сейчас важно, чтобы дальше не распадалось государство. А все признаки грядущего распада, к сожалению, есть…
Вы как-то рассказывали о первом впечатлении, которое произвела на вас «Троица» Рублева.
Это было еще до войны в Третьяковке. Раньше я смотрел просто на нее. А тут углубился – и меня пронзило. Зал был пустым. Я стоял, смотрел, приближался, думал, разглядывал, потом опять стоял, перебирал в уме историю того времени, что происходило, какова роль Андрея Рублева, роль монастырей… Потом я испытал толчок, вздрагивание… И вот эти полчаса, проведенные наедине с «Троицей», – мягкие линии, общая композиция, гениальная композиция – говорят о том, каким гармоничным должен быть мир. Мир должен быть гармоничным во всем. Это родилось у меня как убеждение после того, как я долго вглядывался, не торопясь, в эту картину. Я ушел с каким-то особым чувством, словно нашел что-то невиданное никогда.
И последний вопрос: учит ли чему-нибудь история?
Борис Александрович достает фломастер и, улыбнувшись, пишет на листе бумаги зеленым «ДА».
Беседовал Анатолий Парпара
© «Литературная газета»